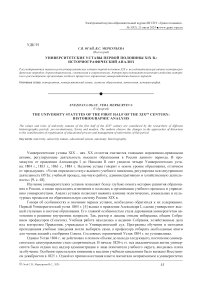Университетские уставы первой половины XIX в.: историографический анализ
Автор: Огай С.В., Меркурьева В.С.
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (92), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются оценки и роли университетских уставов первой половины XIX в. исследователями различных историографических периодов: дореволюционными, советскими и современными. Авторы прослеживают изменения в подходах историков к рассмотрению организации учебного процесса и управлению университетами данного периода.
Университет, университетский устав, система образования, автономия, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/148329334
IDR: 148329334 | УДК: 93
Текст научной статьи Университетские уставы первой половины XIX в.: историографический анализ
№ 3(92). 25 июля 2024 ■
Университетские уставы XIX – нач. XX столетия считаются главными нормативно-правовыми актами, регулирующие деятельность высшего образования в России данного периода. В промежуток от правления Александра I до Николая II свет увидели четыре Университетских устава: 1804 г., 1835 г., 1863 г., 1884 г. Наличие устава говорит о новом уровне образования, отличном от предыдущих. «Устав определял статус высшего учебного заведения, регулировал всю внутреннюю деятельность ВУЗа: учебный процесс, научную работу, административную и хозяйственную деятельность» [9, с. 48].
Изучение университетских уставов позволяет более глубоко понять историю развития образования в России, а также проследить изменения в подходах к организации учебного процесса и управлению университетами. Анализ уставов позволяет выявить влияние политических, социальных и культурных процессов на образовательную систему России XIX в.
Говоря об особенностях и значении первых уставов, необходимо обратиться к их содержанию. Первый Университетский устав 1804 г. [4] вышел в правление Александра I, сделав университет высшей ступенью в системе образования. Его главной особенностью стала дарованная университетам автономия в решении внутренних вопросов. Так, ректор и деканы отныне избирались общим Собранием профессоров (Советом). Учебная работа находилась в ведении Собрания, хозяйственные дела под контролем Правления, учреждался и Университетский суд. Программы обучения и методики преподавания учебные заведения могли выбирать сами, а профессора отбирать необходимые книги для чтения лекций с одобрения Совета. Сословных ограничений Устав 1804 г. не устанавливал.
Однако Устав 1804 г. не действовал в полном объеме до выхода следующего, постепенно университетское самоуправление стало сворачиваться. В начале 1820-х гг. вся академическая жизнь университета была отдана под надзор администрации в лице попечителя учебного округа, вводилась плата за обучение. Особенно пристальное внимание к высшим учебным заведениям было вызвано Восстанием декабристов в 1825 г. Одной из причин восстания власти посчитали неприемлемое в университетах свободомыслие, которое и привело к появлению среди молодежи революционных идей. В связи с этим в Николаевскую эпоху приступили к разработке нового законодательства, регулирующего университетскую жизнь. Эта работа закончилась составлением и выходом Университетского устава 1835 г. [14].
Новый устав подверг изменениям предыдущие правила жизни университетов. «Теперь управление каждым университетом отдавалось особенному начальству попечителя, назначавшегося указом императора. Он следил за исполнением своих обязанностей всеми работниками учебного заведения, имел исключительные права отдавать распоряжения по своему усмотрению практически во всех сферах жизнедеятельности университета» [10, с. 54]. Ректор и деканы продолжали избираться Советом, но с последующим утверждением императора и министра просвещения. «Университетское правление помимо ведения хозяйственных дел, получило и некоторые полицейские функции. Университетская полиция занималась поддержанием порядка между действующими внутри учебного заведения лицами» [Там же]. Университетский суд упразднялся. Тем не менее сословных ограничений данный устав также не устанавливал.
Уже современники происходящих в области высшего образования перемен давали им свои оценки, породив начало историографии истории университетского образования в дореволюционной России. Еще публицисты XIX столетия стали противопоставлять уставы 1804 г., 1863 г. и 1835 г., 1884 г., а современники рассуждать над правильностью такого подхода к их рассмотрению. Так, попечитель Харьковского учебного округа Д.С. Левшин в своих замечаниях не согласился с обвинениями в сторону Устава 1835 г. в том, что он изменил положение университетов в духе единоначалия и бюрократии, т. к. отношение университета к попечителю в нем было устроено согласно Уставу 1804 г. Рассуждая над Уставом 1863 г., он посчитал, что его составители держались «коренных начал» Устава 1835 г. и радикальной университетской реформы не предполагали [6]. Профессор Московского университета Н.А. Любимов в 1881 г. тоже отметил, что изменения в Уставе 1863 г. в сравнении с Уставом 1835 г. не имеют радикального характера в вопросе о возможности вмешательства «начальствующих лиц» в дела университета [7].
С началом советского периода в истории нашей страны произошла коренная перестройка всей системы образования. Начали появляться работы, в которых была предпринята попытка дать анализ предыдущей системе высшего образования с новой идеологической точки зрения. Опыт предыдущей системы высшего образования был кардинально пересмотрен. Автономия осталась в прошлом, университетская демократия стала трактоваться как «буржуазная». «Нивелирование роли уставов в жизни университетов в советской историографии выявилось уже в том, что периодизация по уставам была отвергнута. В соответствии с новыми постулатами в основу периодизации истории университетов были положены “этапы освободительного движения”, или же этапы кризиса общественного строя в Российской империи» [12, с. 374]. Появляются тезисы о том, что разница между уставами 1804 г. и 1835 г. была незначительной и университетское самоуправление с самого начала имело призрачный характер.
Также для советской историографии поиск примеров постоянного нарушения положений уставов со стороны властных лиц стал обычной практикой. В результате возникло и распространилось мнение, что уставы университетов в своем полном объеме действовали лишь относительно короткий период времени.
Необходимо отметить, что внимание советских исследователей было больше обращено в сторону Устава 1863 г., ввиду накалявшейся в середине XIX в. «революционной ситуации», побудившей к отмене крепостного права и проведению последующих «буржуазных» реформ, как было принято писать в советской литературе. Тем не менее, некоторые исследователи все-таки упоминали и предыдущие уставы, давая оценку отдельным положениям.
Советский исследователь В.И. Орлов, анализируя устав 1804 г., пишет о задаче университета – приготовить юношество для государственной службы. По его выражению, «государству были необходимы образованные слуги – “чиновники”». При этом сами профессора университетов представлялись в глазах правительства не свободными преподавателями свободной науки, а чиновниками, обязанны- ми читать свои курсы в строго определенном направлении и по строго определенным программам и руководствам. В связи с чем, историк считает, что Устав 1804 г. стоит в прямой связи с практической политикой XVIII в. и является одним из промежуточных звеньев общей истории русского народного просвещения [11].
Известный советский историк А.М. Сахаров в процессе анализа Устава 1804 г. обращал внимание на такие аспекты как автономия, которая на практике была весьма суженой. По его словам, фактически университет был подчинен попечителю, проводившему политику самодержавия. Далее он подмечает, что несмотря на отсутствие сословных ограничений в уставе, правительство запретило принимать крепостных и создавало всяческие затруднения для поступления в университет лиц податных сословий [13].
Касаемо Устава 1935 г., известно, что в его основу была положена концепция министра Уварова «православие, самодержавие, народность». По этому поводу В.И. Орлов написал, что она долгие десятилетия «освещала мракобесие и изуверство политики правящего класса», после чего была положена в основу «либерального» устава [11]. А.М. Сахаров тоже подмечает, что в Николаевском уставе особое внимание было уделено пропаганде «самобытного начала» русской истории в плане реакционных идей панславизма [13].
Давая анализ Устава 1935 г., Орлов приходит к выводу: «Таков был устав николаевской университетской казармы, такой же бездушной, как и другие казармы, в которые были запряганы российские обыватели» [11, с. 57].
Другой советский исследователь Р.Г. Эймонтова в своих трудах старалась показать, что в целом уровень развития науки и преподавания в университетах в николаевские годы был «ниже их возможностей». Основная, глубинная причина такого явления заключалась в том, что в стране сохранялся устаревший социально-экономический строй и его политическая надстройка – самодержавие [15].
Как можно было заметить, в советских исследованиях истории университетов наблюдается перенос акцента на марксистскую идеологию, что привело к новым подходам в понимании роли университетов в обществе.
Переломным моментом в подходах к изучению истории университетов Российской империи стал конец 1980-х – начало 1990-х годов, послужив прологом для современной историографии. Взгляды и оценки современных исследователей стали ближе к дореволюционным авторам истории университетов Российской империи, нежели к советским. Они уже не дают однозначных оценок и отвергают периодизацию истории университетов в соответствии с кризисами общественного строя, отдавая больше значение именно выходу нового устава.
Так, М.В. Новиков и Т.Б. Перфилова в своей статье дают полный и обстоятельный анализ положений устава 1804 г. В качестве причины издания каждого последующего устава авторы называют необходимость «откорректировать цели и принципы функционирования университетской корпорации, претерпевавшие изменения по мере развития Российской империи, возникновения новых государственных и социальных потребностей» [8, с. 16]. Университетские уставы по их определению, это законы, «определявшие механизмы организации их научной, учебной, административной деятельности, регулировавшие правовой статус преподавателей и студентов, учреждавшие формы контроля за выполнением возложенных на них государством обязанностей» [Там же].
Современные исследователи стали чаще обращать внимание на положительные стороны уставов. Например, М.В. Новиков и Т.Б. Перфилова видят преимущество Устава 1804 г. в предоставлении значительной автономии университетам: выборность ректоров, проректоров, деканов, профессоров; создание собственных органов управления, исполнительной и судебной власти, независимых от государственного управления. Кроме того, Устав 1804 г. провозглашал всесословность университетского образования и его доступность для широких слоев общества, поскольку предусматривал бесплатные образовательные услуги.
Историк А.И. Аврус в своем очерке «История русских университетов» [1] пришел к выводу, что Устав 1804 г. явился важным шагом в развитии университетского образования в России, создав невиданную в условиях самодержавия автономную систему, подняв престиж университетов и улучшив их работу. Однако, согласно его замечаниям, последующие события показали, что Устав 1804 г. оставался во многом на бумаге, т. к. не соответствовал окружающей действительности.
М.В. Новиков и Т.Б. Перфилова тоже подчеркнули и отрицательные последствия устава, говоря о том, что создание «университетской республики» породило конфликт с основными принципами существования самодержавной Российской империи. «В уставе трудно было провести границу между “благожелательной опекой” со стороны чиновников, олицетворявших государство, и их произвольным вмешательством во внутренний распорядок университетов. Слишком много определялось личностным фактором: пристрастиями, политической ориентацией, подобострастными наклонностями представителей бюрократического аппарата империи, курировавших высшее образование» [8, с. 21]. В связи с чем идейная основа Устава 1804 г. оказалась противоречивой, т. к. Александр I пытался совместить республиканские нововведения с реальной практикой российского государственного регулирования.
А.И. Аврус подобно другим современным исследователям не идеализирует Устав 1804 г., отмечая систематические нарушения его положений, а также их отмену последующими царскими указами и правительственными распоряжениями. По его словам, часть положений устава устарела, поэтому уже с конца 20-х гг. встал вопрос о принятии нового университетского устава.
Несмотря на смену политического курса и отказ от идеологии, оценка Устава 1835 г. осталась достаточно устойчивой. Он до сих пор считается «реакционным», связанным с ликвидацией автономии и установлением полицейского надзора. Тот же И.А. Аврус отмечает стремление ограничить права и автономию университетов, органически вписать их в административно-бюрократическую систему страны, чтобы они не выделялись, не отличались по своим внутренним порядкам от других государственных учреждений. Однако современные исследователи все же стали отходить от односторонних оценок и в отношении николаевского устава, признавая не только его недостатки, но и преимущества. Несмотря на явное ограничение автономии, А.И. Аврус выделяет в качестве положительного тот факт, что университеты все же продолжали существовать, вместо закрывавшихся открывались новые. Более того, были достигнуты значительные успехи в деле развития университетского образования, в ряде университетов началось формирование отечественных научных школ.
Можно сказать, что новый исторический этап принес и новые идеи. В своей монографии доктор исторических наук А.Ю. Андреев обосновал вывод о том, что данный устав «стал шагом вперед на пути дальнейшей модернизации российских университетов, заложив основу их “национальной модели”, приспособленной к особенностям России и в то же время отразившей изменения функций университетов XIX в. в масштабах всей Европы» [2, с. 50]. Другие авторы отмечают, что устав 1863 г. не отрицал, а продолжал линию предшествующего устава, а именно, «укрепляя возрастающую роль представительских органов, в целом усиливал роль государства в университетском строительстве» [5, с. 135]. По мнению И.А. Авруса, Устав 1835 г. существенно отошел от европейских университетских уставов. Он отражает уже особенности и уникальность российской системы. В связи с этим, автор считает, что данный устав сыграл решающую роль в успехе российского образования в 1840-х гг.
Исследователи в области университетского образования Е.А. Вишленкова и Р.Х. Галиуллина в своей статье поставили перед собой более глубокую задачу – реконструировать историю университетской автономии в России первой половины XIX в. Создание системы университетов в России, согласно авторам, сделало актуальным форму автономии в виде независимости от местной культурной среды. Это нашло отражение в практике корпоративного поведения университета, направленного на создание самодостаточных университетских городков в городах расположения университетов в Российской империи [3].
Общим итогом введения устава 1835 г., по их мнению, стал переход от саморегулируемого управления к коллективному с назначением специализированных государственных чиновников – профессоров, деканов и ректора. Эта система, которая стала известна как «корпоративная автономия», ознаменовала собой значительный отход от предыдущих форм управления университетами и представляла собой новый подход к управлению высшим образованием.
Затрагивая вопрос о включении триединой формулы (православие, самодержавие, народность) в основу Устава 1935 г., можно заметить, что современные исследователи отказываются от отрицательных оценок и нападок в сторону составителей устава. Так, А.Ю. Андреев ограничивается замечанием о том, что «утверждению устава 1835 г. предшествовал разбор многочисленных проектов, в которых критика устройства университетов в России соединялась с желанием лучше приспособить их к нуждам русского образования» [2, с. 51].
Говоря о характерных различиях между первыми двумя университетскими уставами, А.Ю. Андреев подмечает, что первый из них еще имел противоречивый характер и его противоречия были обусловлены не только конкуренцией образовательных систем Франции и Германии на рубеже XVIII–XIX вв., но и тем, что сама модернизация немецких университетов XVIII в. носила не революционный, а эволюционный характер, сочетая в себе элементы старого и нового, в частности, сохраняя многие пережитки корпоративной автономии. Устав 1835 г. уже был свободен от этих пережитков, ставя главной задачей повышение уровня университетской науки и преподавания.
Таким образом, мы замечаем, что современная историография кардинально пересмотрела значение университетских уставов первой половины XIX в. Современные исследователи уже не делают акцент на конфликте интересов и противоречиях между различными слоями общества, а стараются дать объективную оценку обоих уставов и высказать новые идеи.
Подводя итог, необходимо отметить, что взгляд на изменения в системе образования менялся в зависимости от идейной составляющей эпохи, в который жил и работал исследователь. В связи с тем, что Советский Союз отторгал предшествующую систему образования, в работах историков этого периода находится больше отрицательных оценок и попыток найти противоречия между прописанными в Уставе правилами и реальной деятельностью университетов. Однако не всегда их замечания были безосновательными. В действительности многие положения, прописанные в содержании уставов, отменялись последующими постановлениями, т. е. теряли свою силу еще до выхода следующего устава. Тем не менее, представители современной историографии стали отказываться от некоторых устоявшихся раннее положений, в связи с чем в настоящий период происходит переосмысление советского историографического наследия по истории университетского образования.
Список литературы Университетские уставы первой половины XIX в.: историографический анализ
- Аврус А.И. История российских университетов: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2005.
- Андреев А.Ю. «Гумбольдт в России»: Министерство народного просвещения и немецкие университеты в первой половине XIX века // Отечественная история. 2004. № 2. С. 37–55.
- Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х. Профессора и бюрократы: парадоксы университетской автономии в России первой половины XIX века. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011.
- Высочайше утверждённый устав императорского Московского университета 1804 г. // Музей истории Российских реформ имени П.А. Столыпина. [Электронный ресурс]. URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13660 (дата обращения: 25.05.2024).
- Галкин Ю., Григорьев Ф., Колесников В. [и др.] Третий университетский устав // Высшее образование в России. 2001. № 6. С. 134–136.
- Замечания на проект общего университетского устава императорских российских университетов: Ч. 1-2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1862. Т. 1.
- Любимов Н.А. Мой вклад. М., 1881.
- Новиков М.В., Перфилова Т.Б. Создание системы университетского образования в России и устав 1804 г // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 1. № 1. С. 15–22.
- Огай С.В. Гимназическое образование в дореволюционной России (региональный аспект) // Студен. электрон. журнал «СтРИЖ». 2023. № 1(48). С. 48–51. [Электронный ресурс]. URL: http://strizh-vspu.ru/files/publics/1682332740.pdf (дата обращения: 25.05.2024).
- Огай С.В., Меркурьева В.С. Университетское образование в дореволюционной России // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2023. № 3(86). С. 52–56. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1688562632.pdf (дата обращения: 25.05.2024).
- Орлов В.И. Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. М.: Изд-во политкаторжан, 1934. (Историко-революционная библиотека: Воспоминания, исследования, документы и др. материалы из истории революционного прошлого России. 1933. № 10–11).
- Посохов С.И. Уставы российских университетов ХІХ века в оценках современников и потомков // Вопросы образования. 2006. № 1. С. 370–382.
- Сахаров А.М. Московский университет за 200 лет: Краткий ист. очерк. М.: Моск. ун-т, 1955.
- Университетский устав 1835 г. // Музей истории Российских реформ имени П.А. Столыпина. [Электронный ресурс]. URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13653 (дата обращения: 25.05.2024).
- Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: От России крепостной к России капиталистической. М.: Наука, 1985.