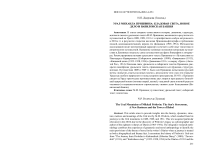Урал Михаила Пришвина: кладовая света, новое дело и вавилонская башня
Автор: Дворцова Наталья Петровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые осмысляются история, динамика, структура, мотивы и смыслы уральского текста М.М. Пришвина, возникшего в результате его путешествий на Урал в 1889, 1909, 1931 гг. и приобретшего особую актуальность в 2010-е гг. в результате открытия наследия Пришвина-фотографа и публикации полной, восемнадцатитомной, версии его Дневников (1905-1954). Методология исследования носит интегративный характер и сочетает в себе опыт геопоэтики и антропологии путешествий. Выявлены основные положения концепции путешествия в Дневниках писателя, связь путешествия как факта биографии и литературы. Реконструирована история уральского текста Пришвина от «Путешествия из Павлодара в Каркаралинск (Сибирского дневника)» (1909); «Заворошки» (1913), «Кащеевой цепи» (1922-1928, 1954) к Дневникам 1931 г. и очерку «Урал» («Золотой Рог», 1934). Показана связь уральского и сибирского текстов Пришвина, раскрыто своеобразие уральского текста, проявляющееся в его функции, структуре, мотивах. Путешествия 1889 и 1909 гг. были для Пришвина испытанием русской мечты «попытать счастья на новых местах», результатом чего стало его открытие Урала как особого природного и геокультурного пространства. В 1931 г. Пришвин увидит на Урале трагическое противостояние двух миров и пространств: богатейшей природной жизни (мотивы зверей, камней, «кладовой света и вечной радости человека») и социалистического строительства, «нового дела» большевиков (Вавилонской башни).
М.м. пришвин, путешествие, уральский текст, сибирский текст, геопоэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/149141266
IDR: 149141266 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-251
Текст научной статьи Урал Михаила Пришвина: кладовая света, новое дело и вавилонская башня
К постановке проблемы
Жизнь и творчество Пришвина во многом определяются темой пути (тропы - общей, человеческой, большой и малой; дороги - осударевой и народной). «Жизнь наша едина, она есть путь», - писал он в Дневнике 1951 г. [Пришвин 2016, 585], утверждая при этом, что «человек - это строитель пути» [Пришвин 2013, 130]. Закономерно поэтому, что как бы ни толковали критики, литературоведы и читатели феномен Пришвина (певец природы, асоциальный писатель, философ, писатель-фотограф и т.п.), все они так или иначе видят в нем писателя-путешественника.
О Пришвине-путешественнике пишут мемуаристы [Воспоминания о Михаиле Пришвине 1991]. Исследователи традиционно осмысляют эту тему с биографической [Пришвина 1984; Варламов 2003] и краеведческой [Пахомова I960] точек зрения. В последние десятилетия в литературоведении появились новые подходы к ее изучению, связанные прежде всего с мифопоэтикой, геопоэтикой, анализом локальных текстов литературы.
Такие аспекты темы, как мифологема пути, феномен и мотив странствий, философия пространства, исследуются в русле елецкой школы при-швиноведения [Борисова 2001; Лишова 2021; Логвиненко 2021]. Новые культурологические перспективы открывает изучение религиозно-философского контекста темы / мифологемы пути в творчестве Пришвина [Визгин 2016; Кнорре 2019]. Особую актуальность в последние годы приобрел геокультурный подход к теме [Худенко 2017; Трубицина 2019]. Пришвин-путешественник осмысляется, кроме того, в контексте проблемы культурного брендинга территории и туризма [Тюменский период в жизни Михаила Пришвина].
Статья посвящена динамике, структуре и смыслам уральского текста Пришвина, возникшего в результате его путешествий на Урал (1889, 1909, 1931). Текст этот до недавнего времени был малоизвестным, однако в XXI в. он приобрел особую актуальность и фактически был заново открыт в связи с популяризацией наследия Пришвина-фотографа и публикацией полной, восемнадцатитомной версии его Дневников (1905-1954). Причиной новой актуальности уральских путешествий Пришвина является, в частности, факт, о котором пишет публикатор Дневников писателя Л.А. Рязанова: «С 2010 года издание в финансовом и информационном плане неизменно поддерживал Президентский Центр Б.Н. Ельцина» [Рязанова 2017, 4]. Следствием этого стало открытие в Екатеринбурге трех выставок фотографий писателя, неизменно сопровождающихся фрагментами из Дневников и ставших событиями в культурной жизни уральской столицы: «Строится невидимый град и растет...» (музей «Литературная жизнь Урала XX века», 2015); «Михаил Пришвин. Фотографии и дневники. 1928-1936» (Арт-галерея Ельцин Центра, 2017); «Творческая командировка» (музей «Литературная жизнь Урала XX века», 2021-2022).
Исследование уральского текста Пришвина осуществляется на основе интегративного подхода, включающего в себя опыт антропологии путешествий [Головнев 2016] и геопоэтики как работы с ландшафтно-географическими образами, мотивами, мифами [Сид 2017; Абашев 2000; Замятин 2003].
Путешествие как факт биографии и литературы
Особое «чувство дали», присущее Пришвину, заставляло его гимназистом бежать в Америку (1884), студентом Рижского политехникума идти в марксисты (1890-е гг), а затем в агрономы (1900-1905), в писатели (1906), причем становиться «писателем-бродягой» и путешественником. В Дневнике 1920 г. он пишет о путешествиях как об особой радости и счастье русского человека, дарованных ему огромными пространствами России: «Из чего складывается счастье русского, первое, что можно куда-то уй-ти-уехать постранствовать, куда-нибудь в Соловецкий монастырь, или в Киевские печуры Богу помолиться, или в Сибирь на охоту, или в просторы степные так походить - это тяга к пространству Руси необъятному» [Пришвин 1995, 23].
Странствия и поездки - то, что объединяет жизнь и творчество Пришвина, писателя Серебряного века и советского периода. В путешествия писатель отправляется с завидной регулярностью. До Первой мировой войны и революции это поездки на Кавказ (1894), в Германию и Францию (1900-1902), в Олонецкую губернию (1906), в Карелию и Норвегию (1907), в Керженские леса, к Светлому озеру, граду Китежу (1908), в Сибирь (1909), в Крым (1913). Все главные произведения Пришвина Серебряного века создавались на основе путешествий: «В краю непуганых птиц» (1907), «За волшебным колобком (1908), «У стен града невидимого» (1909), «Черный араб» (1910), «Славны бубны» (1913), «Заворошка» (1913).
Этот факт определяет их поэтику. В основе произведений - сюжет пути в неведомую идеальную страну, принимающую самые разные облики: края непуганых птиц, страны без имени и территории, града Китежа, Арка(дии), а позднее - Журавлиной родины, Берендеева царства и др. Путешествия Пришвина, таким образом, - это факты его биографии, у которых есть художественная, а нередко еще дневниковая и, прежде всего в советское время, фото-версия.
В Дневниках Пришвина складывается особая концепция путешествия. Прежде всего он ценил путешествия за возможность чувствовать себя в дороге «в руках Божьих, а не человеческих» [Пришвин 2006, 292]. Путешествие как особое поведение, писательское и человеческое, это, по словам Пришвина, пост на все привычное [Пришвин 2007, 519], разрыв связей с ним, когда восстанавливается подлинная, глубинная целостность жизни и полнота связей человека с миром. В результате путешествие становится для Пришвина и способом «узнать свою родину» [Пришвин 1994, 300], и проверкой своих сил, «явлением личности» [Пришвин 2013, 340].
Урал и сибирский текст Пришвина
Поездка на Урал в 1931 г. (23 января - 23 февраля) была первым путешествием Пришвина в советское время. С этой точки зрения она является ключевой для понимания всех, включая и пять других (на Дальний Восток, 1931; на Беломорканал, Соловки и Хибины, 1933; на Пинегу, 1935; в Кабардино- Балкарию, 1936; в Костромской край, 1938), путешествий Пришвина - советского писателя.
Прежде всего важен тот факт, что поездка на Урал была командировкой Пришвина от журнала «Наши достижения». «Деньги получены от “Достижений” и 23-го (в пятницу) мы едем в Свердловск искать достижения» [Пришвин 2006, 322], - записывает он в Дневнике. Пришвин был свидетелем и очевидцем событий, предшествовавших рождению журнала, основанного А.М. Горьким, что зафиксировано в его Дневниках 1928 г. Приезд Горького в СССР в 1928 г, в год его шестидесятилетнего юбилея, Пришвин воспринял сначала как нечто «вроде ухода Толстого», позднее историю с журналом оценил как авантюру и резко негативно воспринял саму идею издания: «“Наши достижения” - называется предполагаемый журнал Горького. Думаю, что наши достижения состоят главным образом в Гепеу. Это учреждение у нас единственно серьезное и в стихийном движении своем содержит нашу государственность всю, в настоящем, прошлом и будущем» [Пришвин 2004, 57, 71,316].
Название журнала Пришвин считает неудачным. «По правде говоря, -пишет он, - видимых достижений (не говорю о “видимости”) у нас никаких нет (едва ли много, чтобы о них писать шесть раз в год)». Кроме того, название журнала, с его точки зрения, «у массового читателя вызывает представление “казенного оптимизма”». «Нас всех замучило радио ежедневным выкрикиваньем “наш рост!”, к этому присоединяются теперь: “наши достижения”. Кто поручится, что журнал не будет лучше радио -органом казенного оптимизма?» [Пришвин 2004, 129].
Соглашаясь с идеей Горького о том, что журнал будет «критиковать действительность, имея отправную точку «достижений», Пришвин тем не менее предлагает другое название издания - «Новое дело», по аналогии с «Общим делом» Н.Ф. Федорова, аргументируя это тем, что «массы надо питать не «достижениями», а счастьем, которым сопровождается всякий 254
творческий труд». «Предлагаю выбрать имя, означающее тот момент творческого труда, когда личность забывает свои лишения в радости общего дела», - пишет Пришвин, подчеркивая при этом, что «наши возможные достижения могут быть учтены только в перспективе общего дела» [Пришвин 2004, 130].
Поездка на Урал в 1931 г. станет испытанием идей Пришвина о «новом деле» советской литературы и, главное, его представлений о том, что происходит в стране в эпоху сталинской индустриализации и великих строек социализма.
В 1931 г. Пришвин оказался на Урале уже в третий раз, причем это была поездка, во время которой знакомство с Уралом было его главной и единственной целью. В трех других случаях целью путешествия писателя была Сибирь. Впервые Пришвин познакомился с Уралом в 1889 г, когда вместе со своим дядей И.И. Игнатовым, крупным сибирским пароходов-ладельцем, ехал в Тюмень, чтобы после исключения из Елецкой классической гимназии начать учиться в Александровском реальном училище. Эта история, как известно, воссоздана в романе Пришвина «Кащеева цепь» (1922-1928, 1954).
Подлинным открытием Урала и Сибири, как об этом свидетельствует «Сибирский дневник», стало для Пришвина его путешествие 1909 г, когда он поехал в заиртышские степи изучать переселенческое дело и последствия Столыпинской реформы. Маршрут этого путешествия, продолжавшегося с 29 июля по 2 октября: Москва - Екатеринбург - Тюмень -Омск - Павлодар - Каркаралинск - Тюмень - Москва. В Дневнике самого протяженного пришвинского путешествия по Сибири - от Уральских гор до Тихого океана (8 июля - 8 ноября 1931 г.) нет новых, по сравнению с зимней поездкой в Свердловск, впечатлений от Урала, размышления о нем - часть размышлений писателя об индустриальном освоении Сибири.
И с биографической, и с художественной точки зрения Урал и Сибирь в сознании Пришвина неразрывно связаны. Так, готовясь к поездке в Свердловск, он записывает в Дневнике 21 января 1931 г: «собираемся выехать 23-го в Сибирь, билеты взяты». Вернувшись из поездки, фиксирует впечатления: «Восточный склон Урала падает в Сибирь, без предгорий» [Пришвин 2006, 322, 329]. Очевидно, что уральский текст Пришвина является частью его сибирского текста, структурированного маршрутами его сибирских путешествий (Дневники 1905-1954 гг; «Кащеева цепь», 1922-1928, 1954; «Черный араб», 1910; «Заворошка», 1913; «Архары», 1921; «Жень-шень», 1933; «Золотой Рог», 1934) [Дворцова 2019].
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что уральский текст Пришвина при всей его включенности в текст сибирский - явление самостоятельное, характеризующееся особой функцией, тематикой и мотивами. Доминантами уральского текста писателя являются «Путешествие из Павлодара в Каркаралинск (Сибирский дневник)» (1909) и Дневники 1931 г. В текст этот входят также художественные произведения, возникшие на основе Дневников: «Заворошка» (часть «Новые места»), «Кащеева цепь» (звено
«Золотые горы») и «Золотой Рог» (очерк «Урал» из части второй «Соболь»),
Образ Урала в «Сибирском дневнике» 1909 г. с его поэтикой остановленных мгновений, в целом характерной для Дневников Пришвина, рождается на пересечении четырех лейтмотивов: 1) уральский пейзаж; 2) камни и стук колес поезда; 3) столб на границе Европы и Азии; 4) Адам и Ева в поисках земли обетованной / переселенцы.
По мере движения поезда Пришвин фиксирует в дневнике прежде всего то, «как пейзаж изменяется», для него это главный маркер пространства: «Пейзаж московской губернии: рожь поспела, овсы зеленые»; «После Тулы наш пейзаж: земля почерней, тяжелей»; «Уфимская губерния: поля огромные и далекие, края синих гор, <...> земля опять светлая» [Пришвин 2007, 471, 472, 474].
Уральский пейзаж, в отличие от предшествующих, сложно структурирован и протяжен во времени: писатель всматривается в игру его вертикалей и горизонталей: «Тучи задевают горы, курятся вершины. Урал - старые горы, невысокие. Долины зеленые со стогами сена, опираются то на березу, то на сосну <.. .> птица-хищник сидит под копной. Долины: тут будут пахать. Поезд в проломинке гор, свистит в них» [Пришвин 2007, 474].
Чередование гор и долин привлекает писателя больше всего: «Урал, подъезжая к долине: озеро... молодая еловая гора, а за ними в тумане уходящие горы». Это чередование рождает особое уральское - искривленное пространство, оно петляет, змеится: «змеится поезд. Петля. Другой поезд. Дымок где-то в петле от поезда затерялся и тает» [Пришвин 2007, 475-476]. Эта особенность уральского пространства особенно заметна на фоне степного «необъятного пространства» Сибири.
Важнейшая примета уральского пейзажа в «Сибирском дневнике» -камни («Камни и камни, в камнях высечена дорога, там и тут высечено») и, конечно, «искатели драгоценных камней». С камнями связана важная звуковая деталь: «Как стучат колеса в горах!»; «Как гремит поезд в горах!» [Пришвин 2007, 474^176].
Ключевой мотив в уральском пейзаже Пришвина - столб на границе Европы и Азии. «Сейчас будет столб Европа и Азия», - пишет Пришвин в ожидании, а затем, когда он остался позади, как констатация уникальности уральского пространства, появляется запись: «Европа и Азия в столбе» [Пришвин 2007, 475, 477].
Пришвин ищет образ, метафору для того, чтобы выразить свои впечатления от Урала как особого пограничного пространства: «Урал ровный, цвет хлеба и сосен <...> серый, холодом веет, весь Урал как одна густая бровь старика... Весь Урал как белый дымок паровоза, тающий на синеве лесов... однотонный» [Пришвин 2007, 476^177]. «Весь Урал, как седая бровь старика», - повторит он в «Заворошке» [Пришвин 1982, 698].
Итогом поиска становится, очевидно, образ Урала как ворот на границе Азии и Европы: «Азия - колыбель человеческого рода, и Урал - ворота, в которые вышли все народы Европы» [Пришвин 1982b, 114]. Здесь важен 256
особый пришвинский взгляд, связанный со сменой привычных приоритетов: не из Европы в Азию, а, наоборот, из Азии, куда русский человек шел в поисках Беловодья, Золотых гор или свободной земли и откуда, не найдя их, возвращался в свою Европу, точнее, все в ту же Россию.
Пришвин критически оценивает ход и результаты Столыпинской реформы, ибо сталкивается с парадоксом: на огромных сибирских пространствах крестьяне-переселенцы не находят ни земли, ни воли, ни счастливой жизни и вынуждены возвращаться из Сибири домой. Вместе с тем Пришвин различает государственную колонизацию Сибири, то есть то, что он называет осударевой дорогой, и противостоящую ей народную дорогу русской истории, связанную с ничем не искоренимой русской мечтой «попытать счастья на новых местах» [Пришвин 1995, 24]. Исходя из этого различия, он будет оценивать строительство Уралмаша в Свердловске.
Урал и «новое дело» большевиков
Впечатления от поездки на Урал в 1931 г. Пришвин фиксирует в Дневнике, очерке «Урал», написанном на его основе, и в фотолетописи путешествия. Важным представляется тот факт, что в Дневнике 1931 г. собственно дневника путешествия в Свердловск с 23 января по 23 февраля в традиционной для Пришвина форме ежедневных записей - нет: 21 января он пишет о сборах в Сибирь, а вновь возвращается к таким записям только 1 марта [Пришвин 2006, 222-223, 331]. Между этими днями с пометкой «Без даты» - заметки Пришвина о героях (мальчик Кир, заблудившийся в лесу; его отец старообрядец Ульян Беспалов), сюжете, месте действия (деревня Самоцветы на Урале) произведения, превратившегося в конце концов в очерк «Урал».
Факт отсутствия дневника путешествия Пришвина в Свердловск можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, общим впечатлением писателя от увиденного, о котором одиннадцатого марта он пишет: «Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет, правда, ведь и не с чем сравнить этот ужас, чтобы сознавать виденное. Только вот теперь, когда увидел в лесу, как растут на елках сосульки, вернулось ко мне понимание возможности обыкновенных и всем доступных радостей жизни и вместе с тем открылась перспектива на ужасный Урал» [Пришвин 2006, 340]. Кроме того, фотолетопись путешествия выглядит убедительнее слов, и Пришвину нужно было отправиться в четырехмесячное путешествие через всю Сибирь на Дальний Восток по следам русских первопроходцев XVI XIX вв., чтобы начать понимать смысл происходящей на его глазах индустриализации страны.
Образ Урала в Дневнике и очерке «Урал» выстраивается на пересечении двух тем: «уральская тайга в контрасте с заводами» и «два полюса всей русской истории: раскол и Октябрь» [Пришвин 1983, 458], разорванное сознание русского человека, который никак не может определиться с царствами земным и небесным.
В Урале 1931 г. Пришвин узнает знакомый ему по 1909 г. край: старые, низкие горы, лесные дебри, камни и озера, звери. Урал для Пришвина -это «волшебное место» обитания медведей. «Берега огромного большинства бесчисленных озер до сих пор еще необитаемы и часто можно видеть, как медведь, поев в лесу чего-то возбуждающего сильную жажду, долго лакает у берега и в тихую погоду далеко пускает круги», - пишет Пришвин [Пришвин 2006, 325]. В очерке «Урал» история с медведями получает продолжение: «Видели, как Мишка вышел из леса на песчаную кручу, очень высокую, и вдруг она от его тяжести подалась и он, беспомощный, поехал вместе с песком и бултыхнулся в воду. Умный зверь не полез обратно на песок, а поплыл на другую сторону озера и взобрался по крутому берегу, оставляя на долгие годы на вязкой глине отпечатки своих лап, известно, очень похожих на отпечатки следа гигантского человека» [Пришвин 1983, 456].
Как и в 1909 г, важнейшая примета жизни Урала для Пришвина - камни, в которых, по словам писателя, застыла «сама неповторимая вечность». В Дневнике 1931 г. под заголовком «Цветные камни» он создает нечто вроде энциклопедии уральских камней на фоне камней Индии, Бразилии, Перу, Китая, Персии и Египта. Урал, с его точки зрения, знаменит «топазами, каких на свете нет - синие топазы». Урал - это также небесно-голубая бирюза, малиновые шерлы, фианиты, александриты, буро-красный венис, аквамарин, аметист, дымчатый кварц [Пришвин 2006, 329-331].
Камни для Пришвина - проявление «плутонических сил земли», превративших их в «кладовые света, а значит и нашей вечной радости». Пришвин также называет камни «кладовыми радости», а о своем будущем герое он пишет: «...на Урале семилетний мальчик Кир из деревни Кедровый Починок с восточного склона Среднего Урала свою страсть к поискам камней получил <...> прямо как бы из рук самого бога Плутона» [Пришвин 2006, 330]. Можно утверждать в связи с этим, что истоки самого известного образа Пришвина как детского писателя - кладовая солнца -связаны и с Уралом.
По замыслу Пришвина, зафиксированному в Дневнике 1931 г, местом действия в его произведении об Урале должна была стать «Деревня на камне, которым жили долго» - деревня Самоцветы, где «хлеб родился <...> и пепельницы делали», но пришли новые люди и началось возведение Уралмашстроя, «гигантского завода-втуза» [Пришвин 2006, 323-325].
Заводы - не города и села, а именно заводы - еще одна, с точки зрения Пришвина, важнейшая примета уральской жизни: «весь Средний Урал усеян такими заводами, разделенными иногда настоящими дебрями лесов и болот». Объясняя, что по-уральски означает слово «завод», он пишет: это не только «тысяч десять домиков, а то и больше, конечно, несколько церквей и трубы завода», «здесь, на Урале, завод понимается как-то вместе с жителями или даже, вернее, самый завод именно и есть люди, живущие здесь вот для этого огромного здания с трубами» [Пришвин 1983, 455].
Заводы как традиционная форма жизни людей на Урале, «где заводы обслуживались крепостными и каторжниками», Пришвину не понравились: «люди тут, как икра для магазина, не для себя, а для Завода» [Пришвин 2006, 324-325].
Отношение Пришвина к Уралмашстрою при всей его очевидной критической оценке нельзя назвать однозначным.
О том, что Пришвин увидел в Свердловске, он рассказывает при помощи много раз повторенных эпитетов «огромный» и «гигантский»: «площадь гигантской стройки <...> электричество, новейшие английские машины и всевозможные курсы для рабочих» [Пришвин 1983, 457]; «огромное место строительства... гигантский завод»; «Уралмашстрой, этот гигантский завод-втуз, где десятки тысяч людей создают новую жизнь». Здесь малограмотный рабочий учится и, уделяя учебе «в день два часа времени, должен сделаться инженером», а «техническое образование будет сопровождаться «припуском» общей культуры человечества» [Пришвин 2006, 325, 334-336].
«Весь идеализм собрался на строительстве заводов», - записывает Пришвин в Дневнике [Пришвин 2006, 338]. Важным представляется тот факт, что в строителях Уралмаша он узнавал себя времени своей марксистской юности: «Иногда на Машинстрое я заражался этой психологией (что новая жизнь началась) <...> и в Машинстрое мне было как бы возвращение к юности, когда верилось, что усилием воли можно все переменить» [Пришвин 2006, 356].
Вместе с тем эта гигантская невиданная стройка, с точки зрения Пришвина, ведется за счет уничтожения леса и природы как таковой, отказа от прошлой и даже настоящей жизни, наконец, отказа от Бога во имя человека, а от человека ради машины.
Новая жизнь, которую создают на Урале десятки тысяч людей, рождается за счет уничтожения жизни старой, то есть, собственно, просто жизни: «Теперь от леса на месте постройки остались там и тут лишь жалкие клочки... Рабочий поселок теперь уже - это целая улица каменных многоэтажных домов. И ни одного деревца второпях не оставили на утеху будущего нового человека. До того неудержимо вперед стремится новый человек, что в этом чрезвычайном усердии беспощаден к прошлому, к лесу». Более того, пишет Пришвин, «это стремление вперед так огромно, что будущее становится реальней настоящего» [Пришвин 2006, 325, 333].
На Урале Пришвин откроет для себя новые акценты в важнейшей для него теме человека и машины: в гигантских стройках социализма машины становятся важнее людей, а люди фактически приравниваются к автоматам. «Мы видели каких-то совершенно железных людей», - запишет он в Дневнике, подчеркивая при этом, что они «даже и совсем Богу не молятся». Опыт фотографирования людей и машин на Уралмаше заставляет его признать: «На машины в иллюстр. журналах смотреть невозможно, потому что их изображают бессмысленно-фотографически и рабочих приставляют условно, тоже каких-то автоматов, а не живых людей. Подходят к человеку от машины, фетишируют. Надо, напротив, все внимание обратить на человека, на его внутренний мир и оттуда подойти к машине» [Пришвин 2006, 326, 333, 345].
Пытаясь понять «новое дело» людей на Урале, Пришвин сравнивает его с тем «делом», которое ему хорошо знакомо по жизни в его родном купеческом городе Ельце, где «деловые» люди отличались особым «нравственным кодексом», а их биографии были «как бы житиями святых, направленных в сторону земного стяжания». В этом контексте он вынужден признать: «новое дело» совершенно отрицает старое «дело». «Ближе всего это не-дело к войне, потому что, во-первых, как на войне тут действуют массы», - пишет Пришвин, подчеркивая, что старое «дело» относилось прежде всего к личному поведению «делового» человека. С точки зрения Пришвина, возможна только одна война: «война за человека, вместо войны с человеками» [Пришвин 2006, 328, 331-333].
Суть происходящего на Уралмаше Пришвин пытается понять через историю задуманного им героя Ульяна Беспалова, предки которого, раскольники и старообрядцы, бежали на Урал при Петре, царе-Антихристе, «когда на них обрушились жестокие гонения за веру» [Пришвин 2006, 326]. На Уралмаш, где он, как и другие крестьяне, живет в землянке, его привели «неурожай, разорение, крайняя нужда». Но именно такие, как он, кержаки, «потихоньку между собой приравнивают Уралмашстрой к Вавилонской башне» [Пришвин 1983, 457].
В «тройных трубах мартеновской печи и гигантских кранах» Уралмаша Вавилонскую башню видят не только герои очерка «Урал», но и автор, обнаруживший в «окаянной жизни Свердловска» совмещение «двух полюсов всей русской истории: раскола и Октября» и понявший «новое дело» большевиков как продолжение дела Петра. Вопрос о будущем: чем закончится грандиозное строительство? - рефреном звучит и в очерке, и в Дневнике: «А может быть, и выстроят?» [Пришвин 1983, 458]; «А может быть, и достроят?» [Пришвин 2006, 335]. В сущности, этот вопрос, остающийся без ответа, - главный итог путешествия Пришвина на Урал в 1931 г.
Уралмаш будет введен в эксплуатацию в 1933 г; в этом же году Пришвин отправится на Беломорканал, строящийся по следам осударевой дороги царя Петра, которую он открыл для себя еще во времена своей первой поездки в Выговский край в 1906 г. Над романом «Осударева дорога» по материалам этой поездки на очередную великую стройку социализма Пришвин будет работать до конца жизни, но так и не закончит его, и он будет опубликован уже после смерти писателя, до сих пор вызывая ожесточенные споры.
Ответ на вопрос о смысле «нового дела» русского человека Пришвин продолжает искать во время путешествия через всю Сибирь на Дальний Восток с 8 июля по 8ноября 1931 г. [Дворцова 2019]. Важнейшей темой дневника этого путешествия станет тема контраста и противостояния двух миров: природной жизни Сибири и индустриальной идеи большевиков. «Из всего, что я видел и слышал в Сибири по пути на Дальний Восток, больше всего мое внимание остановил контраст двух миров, Сибири как страны лесов, рыбы, диких зверей, первобытного человека и Сибири новой, индустриальной», - пишет Пришвин [Пришвин 2006, 565]. Выхода из противостояния этих двух миров он не видит: «Что только не придумывалось для постройки моста, соединяющего в одно свое стремление к мирному творческому труду и современное строительство, какими только не соблазняешься скрепами, - нет! как ни бейся, рано или поздно вся постройка разламывается, и становится невозможным делом соединить пот труда и кровь» [Пришвин 2006, 568].
Итоговым событием, завершающим осмысление Пришвиным «нового дела» большевиков в 1931 г. станет взрыв в Москве 5 декабря храма Христа Спасителя, на месте которого планировалось возведение Дворца Советов. Пришвин пишет о птицах, обитателях крыши бывшего храма, реющих в высоте над грудой камней, там, где был крест: «“Куда сесть?” -думают птицы даже, но как же не мучиться бескрылому человеку, у которого из-под ног вырвали все ему дорогое... Впрочем, я это по старинке о птицах и о людях. Новая Москва равнодушна к разрушению храма» [Пришвин 2006, 588]. В сущности, это переживание трагедии, свершающейся у человека на глазах, в каком бы месте страны она ни происходила: в Москве, в Сибири, на Урале.
Подводя итоги, следует сказать, что уральский текст Пришвина, структурирующийся логикой его путешествий (1889, 1909, 1931 (23 января -23 февраля; 8 июля - 8 ноября) является частью его сибирского текста, но вместе с тем характеризуется особой динамикой, мотивами и смыслами. Путешествия 1889 г. и 1909 г. были для Пришвина изучением (в судьбе переселенцев) и испытанием русской мечты «попытать счастья на новых местах», результатом чего станет его открытие Урала как особого природного и геокультурного пространства.
Во время поездки в Свердловск на строительство Уралмаша в 1931 г. Пришвин увидит Урал как противостояние двух миров и пространств: богатейшей природной жизни и социалистического строительства, «нового дела» большевиков, в основе которого - уничтожение природы, прошлого и настоящего во имя будущего, отказ от Бога и от человека во имя нового железного человека-автомата, человека-машины. «Новое дело» большевиков и «окаянную жизнь Свердловска» Пришвин поймет как строительство Вавилонской башни, и вся новая жизнь в стране в 1931 г. будет воспринята им как трагедия.