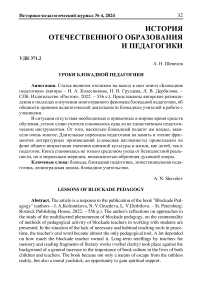Уроки блокадной педагогики
Автор: Шевелев А.Н.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История отечественного образования и педагогики
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья является откликом на выход в свет книги «Блокадная педагогика» (авторы - И. А. Колесникова, Н. В. Груздева, Л. В. Дербилова. - СПб: Издательство «Росток», 2022. - 556 с.). Представлены авторские размышления о подходах в изучении многогранного феномена блокадной педагогики, об общности приемов педагогической деятельности блокадных учителей в работе с учениками. В ситуации отсутствия необходимых и привычных в мирное время средств обучения, устное слово учителя становилось едва ли не единственным педагогическим инструментом. От того, насколько блокадный педагог им владел, зависело очень многое. Длительные пересказы педагогами на память и чтение фрагментов литературных произведений (словесная наглядность) происходили на фоне общего возрастания значения книжной культуры в жизни, как детей, так и педагогов. Книга становилась не только средством ухода от безжалостной реальности, но и моральным мерилом, возможностью обретения духовной опоры.
Блокада, блокадная педагогика, экзистенциальная педагогика, ленинградская школа, блокадное учительство
Короткий адрес: https://sciup.org/140307982
IDR: 140307982 | УДК: 371.2
Текст научной статьи Уроки блокадной педагогики
Введение. В канун XIII Петербургского международного образовательного форума, 13 апреля 2022 года состоялась презентация общественности Петербурга вышедшей из печати книги «Блокадная педагогика» (авторы – И. А. Колесникова, Н. В. Груздева, Л. В. Дербилова. – СПб: Издательство «Росток», 2022. – 556 с.) [Колесникова, 2022]. Появление издания совпало с 80-летием блокадных событий рубежа 1941–1942 годов, когда комментировать значение «смертного времени» вряд ли необходимо. Не откликнуться на этот фундаментальный по замыслу и исполнению труд было невозможно, хотя текст статьи никак нельзя относить к классическим рецензиям, скорее, к жанру «размышление на тему».
Писать на тему блокады очень трудно. Постоянно задаешь себе вопрос, имеешь ли ты право, нет, не судить, а даже пытаться понять, коснуться жизни людей, в нечеловеческих условиях преодолевавших себя, ощущаешь, что, несмотря на 80 лет, которые, казалось, должны были притупить боль и величие Подвига и позволить рассматривать тему сугубо научно и отстраненно, сделать это не получается.
Материалы и методы. В ходе исследования был использован комплекс историко-педагогических методов исследования – историко-генетический, анализ и синтез, метод аналитического обобщения и метод систематизации историко-педагогического знания. Важнейшим методоло- гическим подходом выступил исторический подход и его принципы [Аллагулов, 2024], [Аллагулов, 2011], [Аллагулов, 2012], [Богуславский, 2024], [Богуславский, 2023], [Рындак, 2010], [Рындак, 2020], [Ал-лагулов, 2023].
Результаты исследования. Блокада многомерна. Очевидно, что это была колоссальная гуманитарная катастрофа. Но педагогику блокады никак нельзя свести только к «педагогике выживания», военной педагогике, «педагогике катастроф». Так же, как нельзя вложить этот феномен в привычные клише примера «гуманистической педагогики», «педагогики профессионального подвижничества». Она выходит за традиционные границы историко-педагогического осмысления. Так же, как сама Блокада выходит за пределы «одного из» периодов истории Петербурга, а блокадная педагогика – за границы короткого этапа в трехвековой истории петербургского образования. Годы блокады «стоят над» историей Города и педагогики, как высшее и потому священное их достижение. Поэтому, говоря о блокадной педагогике, скорее, нужно вести речь о педагогике экзистенциальной, на грани жизни и смерти, героического и повседневного, педагогике, силою общей исторической судьбы горожан и фронтовиков поставившей перед ежедневным нравственным выбором каждого участника тех событий. И нас с вами.
Сухость приводимых в книге нормативных педагогических предписаний и статистических отчетов о работе ленинградских школ (детских садов, детских домов, методической службы) поразительно контрастирует с вызывающими шквальные эмоции свидетельствами воспоминаний и дневников блокадных педагогов и школьников. Именно последние создают постоянное ощущение недосказанного, недопонятого, не дают поставить точку в «изучении вопроса». Бюрократический язык и бесстрастная статистика заставляют усомниться, понимали ли руководители Ленинграда, в каких условиях эти указания придется выполнять, не были ли они оторваны от реальности происходящего? Воспоминания, дневники, письма позволяют увидеть блокадную жизнь каждого человека, даже ее общие с другими горожанами черты, но не позволяют фиксировать их в общем контексте Великой Отечественной войны, значительной частью которой стала битва за Ленинград.
О блокадной педагогике размышлять необходимо. Максимально полное представление о ней на уровне имеющихся в нашем распоряжении (а, главное, сохранившихся – сколько не дошло) свидетельств не может не вывести нас к пониманию (пусть и частичному) ее уроков, прежде всего, нравственно-педагогических. Высвечивание, максимальное заострение такими периодами истории достижений и проблем педагогики мирного времени, позволяет предметно и конкретно вести разговор о подлинных и вечных смыслах педагогической деятельности, которые кажутся в суетной образовательной повседневности высокопарными декларациями. Блокадная педагогика – педагогика максимальной честности, освобождаемая от всего наносного, сиюминутного и лживого, что и дает ей право быть экзистенциальной педагогикой, мерилом любой педагогической деятельности. Наконец, осмысление блокадной педагогики, где очевидны уникальность каждодневного подвига учителя, ученика, коллектива школы, героизм Города в целом, выступают достаточно надежной защитой от обезличенных деклараций формального патриотического воспитания, способного зачастую нанести больший педагогический вред, чем принести пользу. Блокадная педагогика – это эталон, вызывающий поворот каждого, кто занимается педагогической деятельностью, к рефлексии ее смыслов, к поиску и обретению собственных выстраданных педагогических решений, которые нельзя заменить пребыванием в «общем строю выполняющих приказы».
Полюсами описания деятельности ленинградской школы в блокаду выступают школьная блокадная повседневность и героизация работы школы в условиях осажденного города. Как справедливо замечает И. А. Колесникова «Описания повседневных лишений как бы отодвигают на второй план собственно педагогическую составляющую школьной блокадной жизни» [Колесникова, 2022, с. 156]. Абсолютизация каждого из этих подходов создает лишь часть общей картины: на фоне страш- ной трагедии школа как-то немыслимо, но продолжала работать; все сферы города работали героически уже потому, что работали, в том числе и школьная сфера. Только на стыке этих подходов, не исключая каждый из них, можно попытаться предположить, где ленинградцы черпали силы для продолжения борьбы, что делает максимально эффективным историко-психологический подход, который разрабатывался, к примеру, в книгах В. С. Ярова [Яров].
Другой системой координат при рассмотрении феномена блокадной педагогики выступают примененное авторами книги сочетание историко-политологического (управленческо-статистического) и антрополого-психологического (дневники и воспоминания педагогов и детей) рассмотрения. Такое сочетание позволяет увидеть особенности психологического восприятия блокадными учителями своей деятельности, когда главным в ней становится осознанная, самостоятельная профессиональная позиция, определяющая смыслы работы в катастрофических условиях, восприятие себя как спасателей поколения юных горожан, как хранителей и трансляторов человечности (культуры) в бесчеловечное время, людей, для которых долг оказывался сильнее страха и лишений, которые не могли себе внутренне позволить работать плохо, хотя никто их не смог бы никогда ни в чем упрекнуть уже потому, что они такое пережили.
Здесь возникает очень щепетильная тема. Зная о позиции части учителей по сохранившимся доку- ментам, исследователи экстраполируют такую «высокую позицию» на всех педагогов города. Вопрос о том, составляли ли такие педагоги большинство в профессиональном сообществе блокадного Ленинграда, представляется некорректным: сложившаяся ситуация подразумевала индивидуальный выбор каждым, но не только на основе нравственных принципов, а также и житейских стратегий собственного и близких выживания (увеличенные продовольственные карточки работающим). За многими блокадниками стояло не только собственное самосохранение, но и жизнь близких людей (детей, родителей, родственников, друзей), которым они спасали жизнь, сохраняя свою или жертвуя ею. Невозможно однозначно достоверно ответить и на вопрос, позволяла ли «высокая позиция» выжить или, наоборот, была, пусть и достойным, но и более опасным выбором. Думается, что здесь нельзя сбрасывать со счетов элемент случайности, везения, как и нельзя говорить о незначимости мобилизации внутренних человеческих резервов, прежде всего, духовно-психологических, жизненный порог которых у каждого был индивидуален.
История ленинградской школы в период блокады распадается на три этапа (внутри каждого есть свои периоды), которые почти полностью соответствуют трем блокадным учебным годам: 1941/42, 1942/43 и 1943/44 учебным годам (1944/45 учебный год проходил уже после снятия блокады, хотя органически включается в изучаемый феномен). Но каждый из этих этапов отличался от другого. Внутри самого трагического, первого этапа можно выделить периоды лета – осени 1941 года, первую блокадную зиму, периоды весны и лета 1942 годов как относительно самостоятельные. На каждом этапе в Ленинграде работало определенное количество школ:
Таблица
Число ленинградских школ разных видов в период блокады
|
06. |
11. |
02. |
01. |
09. |
09. |
09. |
|
1941 |
1941 |
1942 |
1943 |
1943 |
1944 |
1945 |
|
571 |
103 |
39 |
86 |
117 |
183 |
208 |
Очевидно огромное и быстрое сокращение их численности к весне 1942 года и медленное восстановление к окончанию блокады и войны. Закрытие школ было связано с быстрым переводом школьных зданий под госпитали (что предусматривалось еще довоенными архитектурными проектами), частичным (393) или полным (22) разрушением школ бомбардировками, прекращением работы из-за отсутствия учителей. Но ленинградские школы в целом работали в блокадном городе непрерывно всю войну, что позволяет говорить о безусловной значительности контингента детей школьного возраста в блокадном Ленинграде (неудачная эвакуация детей из города летом 1941 года, исход в Ленинград беженцев с детьми из окрестностей города, сохранение детей и подростков как значительной демографической страты среди горожан в 1942–1944 годах, несмотря на эвакуацию по Дороге жизни, начавшаяся реэвакуация в город в 1944–1945 годах). Вряд ли работа школ стала только результатом властных действий руководства города, если бы она не была подкреплена сверхволевыми усилиями ле- нинградских педагогов (самый примерный подсчет возможного числа работающих учителей при минимальной численности относительно общего числа работающих в городе школ показывает, что оно колебалось от 800 в 1941 до 4 тыс. в 1945 году).
По-видимому, в тяжелейших условиях срабатывал своеобразный резонанс, в который вступали два фактора. С одной стороны, действовал военно-бюрократический стиль управления образованием (немыслимые при соотнесении с реальностью блокады требования к качеству обучения и воспитания, тон военного приказа, который должен быть выполнен любой ценой, не взирая ни на какие личные обстоятельства, хотя руководители всех уровней не могли не знать о лишениях, но сознательно или интуитивно ссылку на трудности игнорировали, что, как ни парадоксально, возможно позволяло активизировать скрытые резервы истощенных до невозможности физически и психически людей). С другой стороны, такой стиль сочетался с индивидуальной (у каждого по-своему) самомобилизацией педагогов на основе определенного набора профес- сиональных качеств (высокой, подчас, дореволюционной общей культурой, порядочностью, внутренним достоинством и честью, готовностью самоотверженно трудиться из чувства долга, пережитым опытом жизни в условиях лишений революции и гражданской войны, наличием осознанных, а не привнесенных смыслов профессиональной деятельности, того, что совокупно именуется профессиональной позицией). Вера в победу, в страну, в человечность становилась сильнее социальных барьеров, рациональных аргументов, личных трагедий и лишений. Вера в конечное торжество человечности в борьбе с врагом …и собственной слабостью, глобальностью постигшей катастрофы, позволяла блокадным педагогам сохранять оптимизм и силу духа, демонстрируя которые, они сохраняли детские жизни. Несмотря на индивидуальный характер выбора каждым своего пути в блокаде, все же ясно, что в одиночку, без постоянного примера коллег и без ощущения единения всех на защите Города и России, сработать такой резонанс вряд ли смог бы.
В книге прекрасно прописаны ведущие тенденции, свойственные «Детям блокады», которые определяли характеристики школьников, которым была адресована блокадная педагогика. Во многих источниках зафиксировались явные черты блокадных детей: физическое истощение («бесшумные дети») и физиологическое отставание в развитии на фоне дистрофии, криминогенные проявления детской безнадзорности в условиях осажденного прифронтового го- рода (случаи подросткового воровства продовольственных карточек и даже грабежей), педагогическое «одичание» не ходивших в школу первую блокадную зиму, особенно распространенное среди старшеклассников, многие из которых теперь работали на производстве, сменив взрослых и не стремясь вернуться в школу, почувствовав себя взрослыми как в позитивном, так и в негативном социальном смыслах.
Не менее важным были и глубинные психолого-педагогические изменения поколения блокадных школьников: стремительное психологическое взросление сравнительно с физиологией, недетские размышления и погруженность в рефлексию, готовность к восприятию сложных, философско-этических проблем, вызванная реалиями наблюдаемой блокадной жизни, определенная нравственная деградация, притупленность обычных человеческих эмоций при столкновении привычных этических и поведенческих норм с блокадной жизнью на грани выживания, развитие ненависти ко всем (начиная от фашистов, немцев – через тех, кто нарушал безжалостную блокадную справедливость, пытаясь разными путями сохранить свою жизнь через обречение на смерть жизней других – и заканчивая даже собственными близкими как конкурентами в борьбе за выживание). Все это были мощные педагогические вызовы, отвечать на которые было необходимо.
Обсуждение результатов. Таким образом, само определение авторами книги гуманитарной катастрофы как «естественного эксперимента на сохранение человечности»
заставляет согласиться с их же мнением о том, что «только школа (городская система образования – Ш. А.) могла такой катастрофе хоть как-то противостоять» [Колесникова, 2022, с.138]. Действительно, ни государственные органы, сконцентрированные на решении военно-политических задач, ни семья, замыкающаяся в себе и рушащаяся на фоне военных перипетий, ни привычные институты детско-подростковой социализации (пионерия и комсомол, структуры дополнительного образования и социального воспитания, товарищество обучающихся и детская уличная субкультура) не могли взять на себя сохранение блокадного детства.
Центральным звеном работы блокадной школы становились ее учителя. Какие условия, ценности и приемы позволяли им спасать поколение юных ленинградцев? Можно увидеть три урока, которые имеют вневременное значение для любой педагогической системы:
– вся деятельность блокадных учителей строилась вокруг высочайшей ответственности за вверенных им детей, которая превозмогала лишения гуманитарной катастрофы вплоть до страха за собственную жизнь;
– блокадный педагог, как никогда ранее, все время был рядом с детьми – в классе, бомбоубежище, на строительстве укреплений, дежуря на крыше во время бомбардировок, при поддержании жизнедеятельности школьного хозяйства, на сельскохозяйственных работах и при заготовке дров. Он был равен детям и, одновременно, постоянно выступал в качестве примера. Здесь нельзя было сфальшивить, обмануть, что дети моментально бы почувствовали. Здесь на прочность проверялись любые довоенные словесные декларации, наносное отделялось от подлинного и только подлинное имело право на жизнь;
– в момент, когда гуманитарные катастрофы поляризуют в каждом самые крайние проявления «человечного и звериного» начал, становится особенно важным наличие примера, образцов культурности, людей, которые сохраняют, казалось бы, теряющие всякое значение ее черты, которые «держат культуру», несмотря ни на что. Такими хранителями высоких образцов культуры, выраженных не в столько в эрудиции, сколько в общем, достойном Человека поведении в катастрофических обстоятельствах бытия, становились ленинградские блокадные учителя, передававшие энергетику человечности своим воспитанникам.
Блокадные учителя безусловно верили в то, что транслировали детям: верили в неминуемость Победы, верили в то, что хорошая учеба является личным вкладом ученика в ее достижение. Верили в силу единства педагогов и учеников в процессе совместного созидающего труда, граничащего по напряжению человеческих сил с ежедневным боем. Верили в силу заботы людей друг о друге, начиная с близких и заканчивая любым, совершенно незнакомым человеком (что проявилось в многочисленных свидетельствах особенных общих качеств послевоенных ленинградцев, которые выделялись среди жителей других городов СССР). Они перенесли невозможное и вынесли из страданий общий урок «требовательного к себе и другим милосердия», освоение которого и позволила Ленинграду выстоять.
В работе блокадных учителей был заложен еще один важный принцип, чрезвычайно актуальный для современной педагогики. В практике блокадной педагогики, обусловленной трагическими обстоятельствами, была найдена тонкая грань уважительной требовательности педагогов к детям. Грань, которую очень трудно соблюдать в мирной, привычной реальности, когда полюса излишней педагогической строгости и излишне гуманного отношения педагога к детям максимально расходятся. Тогда, в блокаду, этого не происходило. Высочайшая требовательность блокадных учителей к детям была основана на безусловной справедливости и равенстве детей, чувстве коллективного долга, ответственности, как взрослых, так и детей, во имя общего дела, отрицании различного рода личных самооправданий и послаблений, приводила в итоге к мысли о том, что ребенка нельзя жалеть, что жалость станет в конечном счете губительной для его воспитания, да и для самого выживания ребенка в блокадном городе. И, при этом, множество свидетельств о внимательном, понимающем отношении блокадных учителей к прогулам и опозданиям, неуспеваемости детей, позволяло выйти за пределы формальных педагогических требований на этическое поле Человечности. Блокадные педагоги были строги, но никогда не были бездушными к детям. Требовательность к себе давала моральное право быть требовательным к детям, но в каждом ребенке они продолжали видеть Человека.
Блокадная педагогика стала высшей точкой педагогики Слова. В ситуации отсутствия необходимых и привычных в мирное время средств обучения, устное слово учителя становилось едва ли не единственным педагогическим инструментом. От того, насколько блокадный педагог им владел, зависело очень многое. Длительные пересказы педагогами на память и чтение фрагментов литературных произведений (словесная наглядность) происходили на фоне общего возрастания значения книжной культуры в жизни как детей, так и педагогов. Книга становилась не только средством ухода от безжалостной реальности, но и моральным мерилом, возможностью обретения духовной опоры, что выражено емким «читать – значит, жить». И единство духовного воспроизводства у педагогов и учеников также объясняет феномен Блокады.
Заключение. Завершая, хотелось бы сказать и о воспитательной силе символов, которые представлены в книге. Для автора этих строк такими эмоционально мощными символами, выражающими сущность блокадной педагогики, стали торжествующий звон пошедшего весной 1942 года в мертвящей блокадной тишине первого ленинградского трамвая и образ двух детских фигурок, идущих по льду Невы навстречу залпам праздничного салюта в честь снятия блокады в 1944, «маленькие, тощенькие, но выжившие» [Колесникова, 2022, с.165]. Они полностью совпадают с еще одним сильным моим детским впечатлением из начала 1970-х годов, когда, в момент исполнения «Гимна Великому городу» из балета Глиэра, зал вставал. От блокады людей в зале отделяло 30 лет, многие ее пережили сами, а официальным гимном эта музыка еще не стала. Но люди в зале вставали все, многие плакали. Блокада в этом чествовании явно присутствовала как символ единения, общности великого горя и великого подвига.
Список литературы Уроки блокадной педагогики
- Аллагулов, А. М. История педагогики и образования в России: Учебное пособие для студентов вузов / А. М. Аллагулов, В. Г. Рындак, А. В. Торшина. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024. - 205 с. - Текст: непосредственный. EDN: XKYFSM
- Аллагулов, А. М. Методология историко-педагогического познания / А. М. Аллагулов, В. Г. Рындак. - Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. - 83 с. - Текст: непосредственный. EDN: RONBTP
- Аллагулов, А. М. Образовательная политика в России: история и современность / А. М. Аллагулов. - Оренбург: Оренбургский государственный педагогический университет, 2012. - 70 с. - Текст: непосредственный. EDN: RONBLD
- Богуславский, М. В. Научная школа З. И. Равкина - М. В. Богуславского "История педагогики и образования" / М. В. Богуславский // Историко-педагогический журнал. - 2024. - № 1. - С. 10-21. - Текст: непосредственный. EDN: ADAXKG
- Богуславский, М. В. Концептуализация историко-педагогического знания в контексте модернизации высшего педагогического образования / М. В. Богуславский // Историко-педагогический потенциал системы непрерывного педагогического образования: традиции и инновации: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Москва, 27-28 октября 2023 года / Московский педагогический государственный университет, Научный совет по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО. - Москва: Московский педагогический государственный университет, 2023. - С. 10-18. - Текст: непосредственный. EDN: ITNIOT
- Колесникова, И. А., Груздева, Н. В., Дербилова, Л. В. Блокадная педагогика. - СПб: Издательство "Росток", 2022. - 556 с. - Текст: непосредственный.
- Рындак, В. Г. История педагогики и образования. VI-XIX вв. Россия: Учебное пособие / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов.- Оренбург: ОГИМ, 2010. - 426 с. - Текст: непосредственный. EDN: RONCHV
- Рындак, В. Г. Педагогическое познание сквозь призму синергетического подхода / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2020. - № 5(228). - С. 73-78. - Текст: непосредственный. EDN: VPQAXJ
- Теория и практика современного образования в пространстве историко-педагогического процесса / А. М. Аллагулов, Е. Н. Астафьева, Н. Б. Баранникова [и др.]; Министерство образования Московской области Академия социального управления. - Москва: Академия социального управления, 2023. - 396 с. - Текст: непосредственный.
- Яров, С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 - 1942 годах //ЛитМир - Электронная библиотека. - Текст: электронный. - URL: https://www.litmir.me/br/?b=162612&p=37.