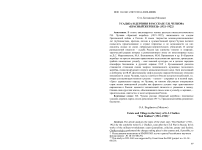Усадьба и деревня в рассказе Г.И. Чулкова "Красный жеребец" (1921-1922)
Автор: Богданова Ольга Алимовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется топика рассказа писателя-символиста Г.И. Чулкова «Красный жеребец» (1921-1922), написанного по следам Гражданской войны в России. В своем творчестве военно-революционных лет (публицистике, критике, поэзии и художественной прозе) Чулков пытался осмыслить происходившие в стране перемены и по возможности на них повлиять исходя из своих либерально-патриотических убеждений. В центре размышлений писателя - судьба России как единства «земли» и «народа», трагический разрыв которых в революционную эпоху он констатировал вслед за Д.С. Мережковским, М.А. Волошиным, М.М. Пришвиным и др. В «Красном жеребце» не просто показано нравственное недостоинство крестьян, пришедших грабить помещичью усадьбу - очаг высокой культуры, но в деталях передана атмосфера бесовщины в русской деревне 1919 г. Кульминацией рассказа становится отчаянная скачка зверски подожженного мужиками господского жеребца, символизирующего второго апокалипсического коня. Хотя восходящий к любимому им Ф.М. Достоевскому миф о русском «народе-богоносце» очевидно поколеблен в глазах Чулкова, мысль о святости России остается незыблемой, т.к. вторая составляющая понятия о родине - «земля» - сохраняет ее в полной мере. «Грех» деревенского народа, по Чулкову, во многом обусловлен отвержением строя жизни помещичьей усадьбы как форпоста лучших черт христианского европеизма в России: ценности человеческой личности и уважения к закону. Однако сама «русская земля», объединившая в своем лоне и усадьбу, и деревню, - хранительница «святости» и залог возрождения России.
Г.и. чулков, рассказ "красный жеребец", помещичья усадьба, деревня, народ, земля, революция 1917 г, гражданская война, разорение, бесовство
Короткий адрес: https://sciup.org/149127249
IDR: 149127249 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00008
Текст научной статьи Усадьба и деревня в рассказе Г.И. Чулкова "Красный жеребец" (1921-1922)
«Не торопитесь хоронить Россию» - так обращался к своим читателям известный поэт, писатель, критик и публицист Георгий Иванович Чулков, близкий к символистским и религиозно-философским кругам, в первом номере журнала «Народоправство» за 1917 г. [Чулков 1917, № 1, 4], вышедшем после обнадеживающих мартовских событий: падения изжившего себя романовского самодержавия и прихода к власти Временного революционно-демократического правительства для подготовки в стране всенародного Учредительного собрания. В черные для себя дни Октябрьского переворота, который он считал контрреволюцией, узурпацией народовластия в стране кучкой приспешников германского империализма, этот свободолюбивый патриот писал: «Россия не может погибнуть» [Кремнев 1917, 14]; «где-то в глубине души у меня горит надежда, что Россия не погибнет, несмотря ни на что» [Чулков 1917, № 15, 8]. И это на фоне все большего погружения страны в хаос анархии и озверения, этапы которого с болью и возмущением прослеживал в течение судьбоносных месяцев 1917г. его еженедельный журнал. 1 февраля 1918 г, в последнем номере своего открыто оппозиционного новой большевистской власти «Народоправства», вскоре навсегда закрытого из-за материальных трудностей, Чулков, констатируя «полное уничтожение русской городской культуры» и превращение страны «в мелко-буржуазное мужицкое царство - удобный и выгодный рынок для германских капиталистов», все же сохранял веру в возможность «духовного возрождения России» во многом благодаря уже пролитой большевиками «крови мучеников» -епископов и священников Русской православной церкви [Б.К. 1918, 32], а также - тем первостепенным культурным ценностям, которые были созданы русским народом в течение предшествующих столетий [Кремнев
1917, 14].
Работая в разных сегментах искусства слова, в каждом из них Чулков использовал именно те подходы, которые наиболее соответствовали их изобразительно-выразительной специфике. Публицистика, как прямой и непосредственный отклик на происходившие вокруг события, требовала от автора политико-идеологической определенности, созвучной эпохе лексики и стилистики, полемической остроты и актуальности; литературная критика - эстетического взгляда; литературоведение - историко-культурного анализа; а поэзия и художественная проза, напротив, от бурлящей поверхности современной жизни нередко уводили в глубинные течения «большого времени» (термин М.М. Бахтина), к соприкосновению с духовным субстратом бытия, к исследованию архетипических основ человеческого «Я».
После закрытия «Народоправства» Чулков хотел объединить свои напечатанные там статьи в так и не изданном сборнике «Страдные дни», в сохранившемся предисловии к которому писал: «Ничего в этом мире нельзя понять и с должной справедливостью оценить, если не примем во внимание тех таинственных сил, светлых и темных, которые влияют на многообразие нашей жизни. От влияния этих сил не свободны - и быт, и политика, и культура» [Чулков, Предисловие]. Переживаемые им в революционные годы события писатель воспринимал как «возникающее] на путях истории по воле Провидения» [Чулков, Предисловие]. Эта концепция определяла историософский и эстетический поиск в его произведениях 1917 - начала 1920-х гг, удерживая в границах мировоззрения и поэтики символизма при очевидном стремлении к освоению «реализма в высшем смысле» -творческого метода чтимого им Ф.М. Достоевского.
Ряд художественных произведений Чулкова революционных лет откликается «на темы, продиктованные моментом» [Чулков, Предисловие]. Чулков пытался передать не только образ революции, каким он вставал перед душевным взором автора, но и поместить его в «большое время» Богочеловеческой истории, те. осмыслить историософски. Таковы некоторые стихотворения Чулкова, а также рассказы «Милочка» (первая и единственная публикация - в авторском сборнике «Вечерние зори», 1924) и «Красный жеребец» (впервые опубликован в 1999 г).
В обращенном к близкому другу и учителю Вячеславу Иванову стихотворении 1919 г. «Поэту» Чулков, намекая на былую приверженность обоих «мистическому анархизму», открыто указывал на их общую вину как «предтеч» охватившего Россию «буйства темного»:
Ведь вместе мы сжигали дом, Где жили наши предки чинно. Но грянул в небе вещий гром, И дым простерся лентой длинной.
И мы, поэт, осуждены
Свою вину нести пред Богом, Как недостойные сыны, По окровавленным дорогам.
[Чулков 1922, 39]
В прозе травмирующая современность представлена более детально, причем автор рассматривает основные локусы глубинной России: уездный город, деревню и помещичью усадьбу Рассказ «Милочка», сюжетнокомпозиционным построением обращенный к пушкинской (повесть «Станционный смотритель», 1830) и чеховской (рассказ «Душечка», 1898) традиции, создает сниженный вариант символа современной России, русской души, в лице провинциальной «мещаночки», «одинаково благосклонной» [Чулков 1924, 62] на протяжении действия рассказа (которое происходит в 1917-1918 гг.) и к состоятельному помещику, уездному предводителю дворянства Развалишину, и к блестящему адвокату, либералу-республиканцу Балаклавину, и к мелкому телеграфному чиновнику, нигилисту-большевику Суламитову Причем со стороны Милочки не видно никакой расчетливости, но одно лишь искреннее влечение: «Странная была девушка эта Милочка: стоило мужчине взять ее за руку и посмотреть ей пристально в глаза - и тотчас она лишалась своей воли, готовая на все...» [Чулков 1924, 64].
Милочка здесь, конечно же, воплощение «вечно-бабьей» [Бердяев 1918] души «загадочного народа» [Чулков 1922, 48] России; слова мужика-попутчика: «...мы свободы вынести не можем. <...> Россия-матушка вроде как баба. Завсегда себе хозяина ищет. Получила свободу -и сама не знает, как от нее отвязаться. К ней, как ко вдовушке, женихи лезут» [Чулков 1924, 75] - с очевидностью отсылают читателя к писаниям В.В. Розанова и Н.А. Бердяева. «Великая беда русской души <...>, -отмечал Бердяев в статье 1914 г, вошедшей в сборник «Судьба России» (1918), - в женственной пассивности, переходящей в “бабье”, в недостатке мужественности, в склонности к браку с чужим и чуждым мужем». В русском народе «не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и ее прав. <...> “Розановское”, бабье и рабье, национально-языческое, дохристианское все еще очень сильно в русской народной стихии» [Бердяев 1918, 41^12].
Просматривается аллюзия и на Вячеслава Иванова. Еще в докладе «Евангельский смысл слова “земля”», прочитанном в петербургском Религиозно-философском обществе в 1909 г, Иванов выступил против смешения понятий «Мира» (т.е. посюстороннего бытия «земли», данного, наличного состояния природы и человека) и «Земли» («жены, ищущей истинного мужа», Христа; так толкуется евангельский эпизод о Христе и самарянке [Иоанн 4, 5-19], в соединении с Которым она станет «раем») [см.: Иванов 1994]. «Мир» следует отрицать, «Землю» - как плененную Душу Мира - спасать, утверждать. Неподлинный муж России - Сатана, последовательно предстающий в разных обличьях.
Читая рассказ «Милочка», «жутко становится за судьбу России» [Бердяев 1918, 32], в 200 лет «петербургского периода» так и не освоившей, в толще народной, европейских уроков человеческого достоинства, уважения к личности, закону и гражданскому праву
Те же стихии «бесовщины» и страха пронизывают рассказ «Красный жеребец» (1921-1922), составляя мотивный субстрат этого произведения. Помимо своего первого публикатора М.В. Михайловой [см.: Чулков 1999], рассказ привлек внимание пока лишь одного исследователя [см.: Федута 2013], обратившегося, в первую очередь, к его интертекстуальным связям. Я же попытаюсь раскрыть историософское осмысление страшной конкретики революции в русской деревне 1919 г. и близлежащей помещичьей усадьбе.
Глубинный сюжет рассказа - превращение степенных, разумных, уважительных мужиков и баб, хранителей определенного нравственного порядка, участников традиционного усадебного дворянско-крестьянского симбиоза, - в шайку изуверов, убийц и тотальных разрушителей. Метаморфоза происходит при очевидном участии «таинственных сил», о которых автор писал в предисловии к неопубликованным «Страдным дням».
Если в начале погрома усадьбы Булатовых крестьяне всего лишь «охмелели без вина» от открывшейся возможности улучшить свой быт, компенсировать вековую социальную несправедливость по отношению к себе, то в процессе грабежа в народ постепенно входит бесовская сила: так, в разгар вакханалии Трифону, главарю мужиков, «показалось, что кто-то черный, лохматый положил ему лапу на плечо» [Чулков 1999, 600]. Разграбление помещичьей усадьбы, в отличие от первоначального намерения, становится бессмысленным: вместо разумного дележа удобного, изящного и полезного барского имущества, в том числе лошадей, крестьяне поддаются желанию «погромить бы чего!», «весь мир поджечь» [Чулков 1999, 600]. Вытащенные из господского дома рояль, ценную мебель из карельской березы, фарфор, текстиль - они разбили и испортили. Необузданная страсть, в пределе своем ведущая к самоуничтожению и небытию, воплотилась в кощунственное надругательство над невинной жертвой - прекрасным породистым жеребцом Султаном Третьим. С изуверской жестокостью подожженный грабителями, в своей последней огненной скачке по ночному простору он становится олицетворением Гражданской войны в России, символизируя второго апокалипсического коня (см.: Откр. 6, 3-4).
Итак, перед нами динамика народной жизни в эпоху победившей русской революции: вначале «хмель», затем экспансия «бесовства» и, наконец, «апокалипсис». Эти стадии духовной деградации русского народа прошли перед глазами автора «Красного жеребца» в течение 1917— 1920 гг. В статье «Хмель» (май 1917 г.) Чулков писал: «Если <.. .> побыть в одиночке несколько месяцев и видеть каждый день сумасшедших и ничего больше не видеть, можно совсем потерять голову. И вдруг - свобода. <.. .>
А разве теперь весь русский народ не вышел из тюрьмы? Разве не новыми глазами взглянул он на дольний мир и на высокое небо? Как же было ему не охмелеть. Не <...> странно, что он, опьянев от счастья, нескладно и буйно запел песни, загулял...». «Не мы первые делали революцию. <...> Надо приникнуть к истории, <...> и только тогда поймешь, что русский народ не любит крови, не хочет беспорядка и стыдится буйства <.. .> народ уже <...> перестал слушать непрошеных советчиков (те. большевиков. - О. Б.у..» [Чулков 1917, № 1].
Однако надежды оказались напрасными, и «сознательные» агитаторы в деревне Булатовке сумели овладеть народной волей, разжигая классовую месть и социальную рознь. Дававший уверенность и трезвое осознание своего места в мире библейский «страх Божий» был вытеснен иным страхом - «без имени» [Чулков 1999, 594], как будто навязанным людям извне, толкавшим их на поджоги, грабежи и убийства: «Все чего-то боялись. Старики и молодые боялись Трепетовского (управляющего поместьем. - О.Б.\ молодые боялись стариков, бабы мужей, ребята родителей, Марья Николаевна и Наташа (помещицы Булатовы. - О.Б.) боялись мужиков». Никто не знал причины страха, но «все чувствовали, что дело плохо, что жизнь скудеет, что хлеб стал горьким, что зори по утрам не такие веселые, как прежде, а по вечерам небо в каком-то страшном предсмертном пламени, а за красной завесою звучит труба, тоже страшная. Поет труба о том, что всему конец» [Чулков 1999, 592]. Да и откуда было взять деревенскому народу духовной крепости на защиту от «темных сил», когда все его «мудрецы» (огородник Кассиан, старуха Агафья Родионовна и др.) дружно выступали против православной церкви: Синода, духовенства, принятого церковного богослужения. Дикость, невежество, несамостоятельность суждений и поступков жителей Булатовки как бы иллюстрируют известные историософские тезисы Чаадаева о характере русского народа, не доросшего до личностного и ответственного, подлинно христианского самосознания. К слову, Чаадаев был одним из наиболее востребованных собеседников из плеяды русских литераторов XIX - начала XX в. для многих авторов Чулковского «Народоправства». Возможно, именно он, наряду с А.А. Блоком, вступил «в стрежень историософских интуиций в 1917-1918 гг.» [Богданова 2017, 241].
Все это обусловило, по Чулкову, сползание к «апокалипсису» братоубийственной Гражданской войны на русской земле: сначала превышением меры социальной мести (например, в расправе над Трепетовским, которого мужики оскопили за сластолюбие по отношению к крестьянским девушкам), затем - безудержной страстью к разрушению при разграблении усадьбы Булатовых, и наконец - злобным, садистическим уничтожением кротчайшего и прекраснейшего из Божьих созданий. Автор показывает, как вслед за отчаянной скачкой несчастного жеребца «...мужики побежали свистя. Иные падали, ругаясь непристойно» [Чулков 1999, 602]. Это уже не народ, а какие-то воплощенные «бесы»... Симптоматична метаморфоза благообразного старика Власия, чье имя полемически ассоциируется с известными Власами Н.А. Некрасова и Достоевского. Вспомним стихотворение Некрасова «Влас» (1855) с образом раскаявшегося грешника из народа, и одноименную главу из «Дневника писателя» за 1873 г. Достоевского, трактующую некрасовского героя как доказательство не иссякающего в русском крестьянстве стремления к святости [см.: Некрасов 1981; Достоевский 1980]. Кроме того, святой Власий, Севастийский епископ начала IV в., считался на Руси покровителем и целителем животных. Чулковский же Власий, делегат к булатовским помещицам, сначала сердобольно советует испуганным женщинам уезжать «от греха»: «Мы и сами не рады, что так выходит. Нам самим <...> страшно <...>. А сроки пришли. <...> Земля гудит. О чем гудит? Ночью выйдешь и слушаешь, а она гудит...» [Чулков 1999, 597]. Вечером того же дня, участвуя в погроме покинутой хозяйками усадьбы, этот старик топором «разбил шкаф с книгами и <...> стоял над ним, недоумевая», а затем «завыл, засвистел и заулюлюкал» [Чулков 1999, 601] вместе с толпой мужиков, направляясь в конюшню для расправы с прекрасным конем. Здесь происходит очевидная инверсия знакомого образа, переориентация архетипической модели распространенного неомифа о русском «народе-богоносце». Как показал В.В. Полонский на примере архаического мифа о борьбе Космоса и Хаоса, подобное явление характерно для всей символистской (и не только) прозы Серебряного века, где «зачастую» происходила «.. .деформация архетипической схемы: окончательная победа над хаосом оказывалась] невозможной (курсив мой. - О.Б.)» [Полонский 2008, 20].
Симптоматично, что в тексте «Красного жеребца» (1921-1922) ясно различаются детали иконы «Архангел Михаил - грозных сил воевода»: труба, красный конь, горящие здания внизу, Архангел на огненном крылатом коне. Его труба возвещает победу над Сатаной в небесах. На земле же пока власть Сатаны (Откр. 12, 7-17).
Как видим, несмотря на трезвую оценку ситуации и кажущийся пессимизм, тезис «не торопитесь хоронить Россию» все-таки оставался для писателя актуальным. В самом деле, Милочка даже в браке с Суламитовым сохраняет красоту и улыбчивость; булатовские помещицы с детьми (которые, по Чулкову, тоже часть народа) не убиты, а только изгнаны, книги из разбитого шкафа попадут в деревенские избы, и потомки Власия рано или поздно их прочтут. Деформация, обусловленная жестоким историческим опытом 1917 - начала 1920-х гг, не отменила инерции оптимистического мифа о русском народе, подкрепленного авторитетом Пушкина и Достоевского. Да и в понятие об отечестве Чулков, подобно многим своим современникам (Д.С. Мережковскому, С.Н. Булгакову, А.А. Блоку, А.М. Ремизову, М.А. Волошину, М.М. Пришвину и др.), включал не только народ, но и «землю» [подробнее см.: Богданова 2017].
Размышляя в мае 1918 г. над биографией Достоевского в аспекте «трагического понимания истории», Чулков отметил, что идею великого писателя о «народе-богоносце» нельзя связывать с «реальной политикой»:
«правда Достоевского» - это «правда о земле, земле живой и в существе своем святой - той земле, которую целовал Алеша после кончины старца Зосимы...» [Кремнев 1918, 143, 146]. Судя по всему, Чулков вполне мог бы подписаться под словами участников симпосиона С.Н. Булгакова «На пиру богов» (1918): «...русская земля <...> спасет русский народ, по ней стопочки Богородицыны ступали...»; «.. .Россия спасена - Богородичною силою» [Булгаков 1991, 353]. Нравственное недостоинство народа в годы революции не могло поколебать святости русской земли - автор «Красного жеребца» не сомневался в истинности «софиологической формулы» [Зандер I960, 49] Достоевского: «Богородица - великая мать сыра земля есть» [Достоевский 1974, 116], когда писал в 1919 г:
О, юродивая Россия, Люблю, люблю твои ПОЛЯ, Пусть ты безумная стихия, Но ты свята, моя земля.
[Чулков 2003, 35]
Без сомнения, Чулкову были близки взгляды одного из главных авторов «Народоправства» - Бердяева: «.. .сейчас к мыслям моим о судьбе России примешивается много <...> острой печали от разрыва с великим прошлым моей родины», - писал философ в 1918 г. в предисловии к сборнику «Судьба России». - «Русская революция <...> прежде всего феномен духовного и религиозного порядка. И нельзя излечить и возродить Россию одними политическими средствами. <...> Русскому народу предстоит духовное перерождение», которое потребует сближения с христианской Европой: «Мы должны будем усвоить себе некоторые западные добродетели, оставаясь русскими. Мы должны почувствовать и в Западной Европе ту же вселенскую святыню, которой и мы сами были духовно живы, и искать единения с ней» [Бердяев 1918, IV-V]. Форпостом же европеизма в лучшем смысле слова была в русской деревне XVIII -начала XX в. помещичья усадьба. Ее разграбление в «Красном жеребце» -симптом духовно-нравственного падения революционного народа. Однако сама «русская земля», объединившая в своем лоне и усадьбу, и деревню, -хранительница «святости» и залог возрождения России.
Список литературы Усадьба и деревня в рассказе Г.И. Чулкова "Красный жеребец" (1921-1922)
- Богданова О.А. "14 декабря" Д.С. Мережковского как роман о русской революции 1917 года // Studia Litterarum. 2017. Т. 2. № 2. С. 172-189.
- Богданова О.А. Идеи и образы русской литературы в революционной публицистике журнала "Народоправство" (1917-1918) // Литературный факт. 2018. № 8. С. 219-245.
- Булгаков С.Н. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 290-353.
- Кремнев Б. [Г.И. Чулков]. Достоевский и судьба России // Огни: литературный альманах. М., 1918. С. 133-148.
- Кремнев Б. [Г.И. Чулков]. Судьба России и наше правительство // Народоправство. 1917. № 13. 23 октября. С. 14-16.
- Полонский В.В. Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца ХIХ - начала ХХ века. М., 2008.
- Чулков Г. Вчера и сегодня: листки из дневника // Народоправство. 1917. № 15. 19 ноября. С. 7-9.
- Чулков Г.И. Красный жеребец // Чулков Г.И. Годы странствий / Вступит. статья, сост., подгот. текста и коммент. М.В. Михайловой. М., 1999. С. 590-602.