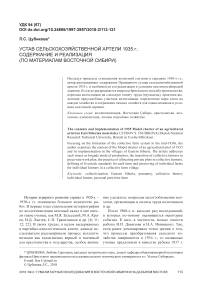Устав сельскохозяйственной артели 1935 Г.: содержание и реализация (по материалам восточной сибири)
Автор: Цубикова Любовь Сергеевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 2 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследуя процессы становления колхозной системы в середине 1930-х гг., автор рассматривает содержание Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г. и особенности его реализации в условиях восточносибирской деревни. В статье раскрываются вопросы бригадного способа производства, перехода колхозников на сдельную оплату труда (трудодень), практики выделения приусадебных участков колхозникам, определения норм скота на каждое хозяйство и сохранения личных хозяйств для единоличников в условиях колхозной деревни.
Коллективизация, восточная сибирь, крестьянство, колхозник, единоличник, личное подсобное хозяйство
Короткий адрес: https://sciup.org/170175846
IDR: 170175846 | УДК: 94 | DOI: 10.24866/1997-2857/2018-2/113-121
Текст научной статьи Устав сельскохозяйственной артели 1935 Г.: содержание и реализация (по материалам восточной сибири)
Истории аграрного развития страны в 1920-х – 1930-х гг. посвящено большое количество работ. В первые годы становления историографии по коллективизации весомый вклад в нее внесли такие ученые, как М.Я. Залесский, М.А. Краев, И.Д. Лаптев, С.П. Трапезников и др. [6; 11; 12; 22]. В своих трудах, в целом выдержанных в партийно-идеологическом ключе, данные исследователи рассматривали процесс коллективизации как единственно верный и значимый для крестьянства и государства, особое внима- ние уделялось вопросам налогообложения колхозов, организации и оплаты труда колхозников и др.
После 1960-х гг. выходит ряд исследований, в которых по-новому оцениваются некоторые события. К ним, в частности, можно отнести работы В.П. Данилова и Н.А. Ивницкого. Так, если ранее доминировала точка зрения о том, что процессы преобразования сельского хозяйства завершаются в 1934 г., то названные ученые предложили в качестве рубежа 1937 г.
[14, с. 64]. Таким образом, изменения, проводимые государством в рамках Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г., стали относиться к процессам коллективизации. В.П. Данилов и Н.А. Ивницкий дали следующую оценку этому документу: «Уставом были определены основные принципы и нормы существования и развития коллективного хозяйства как социалистической формы общественного производства. Разработкой Примерного устава сельскохозяйственной артели была завершена система мероприятий партии и правительства по созданию и законодательному оформлению новых производственных отношений в деревне. С переходом колхозов на новый Устав сельскохозяйственной артели полностью сложился колхозный строй» [4, с. 59].
Общетеоретические проблемные вопросы по становлению коллективизации отражены в трудах И.Е. Зеленина, М.А. Вылцана, в работах сибирских ученых – И.С. Степичева, Н.Я. Гущина, В.А. Ильиных и др. [7; 2; 20; 3; 9; 10].
В то же время следует отметить, что большая часть исследований, особенно постсоветского времени, посвящена изучению сплошной коллективизации, процессам раскулачивания, т.е. концу 1920-х – началу 1930-х гг., и в меньшей степени – середине 1930-х гг. [1; 5; 8; 13].
Восточная Сибирь сыграла важную роль в развитии сельского хозяйства, а массивный материал местных архивных документов позволяет детальнее рассмотреть вопрос «социалистической модернизации» восточносибирской деревни 1930-х гг.
11 февраля 1935 г. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников, проходивший в Москве, принял проект нового Примерного устава сельскохозяйственной артели (далее – Устав 1935 г.), текст которого был утвержден 17 февраля 1935 г. [18]. Данный документ стал преемником Примерного устава сельскохозяйственной артели 1930 г. (далее – Устав 1930 г.).
За первую половину 1930-х гг. коллективные хозяйства качественно изменились: во-первых, в рамках проводимой коллективизации и репрессивной политики против кулачества произошел рост колхозного населения; во-вторых, улучшилась оснащенность колхозов, их материальная обеспеченность (за счет обобществления имущества, раскулачивания и государственной кредитной политики), в-третьих, было произведено слияние мелких объединений в более крупные, многие из которых определились к этому времени и со своей производственной направленностью (животноводство, растениеводство и т.д.). Все это нужно было зафиксировать и закрепить, что и сделал Устав 1935 г.
Все коллективные хозяйства должны были перейти на форму нового Устава. До 10 марта 1935 г. необходимо было обсудить его на специальных собраниях колхозников (Государственный архив новейшей истории Иркутской области, далее – ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 277. Л. 64). Был разработан порядок его принятия. Так, согласно постановлениям Президиума Восточно-Сибирского Крайисполкома и Крайкома ВКП (б) «О мероприятиях по выработке, обсуждению и принятию колхозами своих уставов» от 11 апреля 1935 г. (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 281. Л. 1-2.) и «О мероприятиях по выработке, обсуждению и принятию колхозами уставов сельскохозяйственной артели по Восточно-Сибирскому краю» от 18 июня 1935 г. (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 272. Л. 80-80 об.), устав отдельного коллективного хозяйства должен был оформляться в районной книге регистрации уставов колхозов и заверяться подписью председателя районного исполнительного комитета и заведующего районным земельным отделом. На регистрацию отводилось пять дней. Составлялся такой устав в двух экземплярах: один зарегистрированный экземпляр выдавался правлению колхоза, а другой прикладывался к книге регистрации. Устав, не зарегистрированный районным исполнительным комитетом, передавался для внесения соответствующих поправок на вторичное рассмотрение общего собрания членов сельскохозяйственной артели, на котором представитель районного исполнительного комитета сообщал о причинах отказа в регистрации. Уставы должны были быть приняты по всем колхозам Восточно-Сибирского края к 1 июля 1935 г.
Те же документы определяли и сроки землеустроительных работ с целью закрепления земельных участков за колхозами и выдачи актов колхозам «на вечное пользование». Так, было зафиксировано, что по восточносибирским районам (без БМАССР) такие мероприятия необходимо произвести: в 1935 г. – в Балаганском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Куйтун-ском, Качугском, Нижнеудинском, Слюдянском, Тулунском, Тангуйском, Тайшетском, Усольском, Черемховском, Кировском, Быркинском, Красночикойском, Нерчинском, Оловянинском, Петро-Забайкальском, Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Читинском, Карымском, Борзинском, Неринско-Заводском, Усть-Карий- ском и Каринском районах; в 1936 г. – в Акшин-ском, Александро-Заводском, Газимуро-За-водском, Братском, Балейском, Сретенском, Усть-Удинском, Хилокском, Шиткинском и Шахтаминском; в 1937 г. – в северных районах: Жигаловском, Киренском, Усть-Кутском, Нижне-Илимском. При недостатке специалистов по землеустроительным работам в крае была поставлена задача организовать краткосрочные курсы и подготовить землеустроительных техников, мерщиков. Например, всего по краю, учитывая БМАССР, мерщиков должно было обучиться 3500 человек.
Согласно Уставу 1935 г., занимаемая артелью земля являлась общенародной государственной собственностью и закреплялась за сельскохозяйственной артелью (колхозом) в бессрочное пользование и не подлежала купле-продаже и сдаче в аренду. Сокращение площади земли не допускалось, наоборот, рекомендовалось увеличение площадей, что должно было происходить за счет свободных земель государственного фонда или за счет излишних земель, занимаемых единоличниками. В Восточной Сибири местными органами власти главный акцент при расширении земли делался на освоении свободных земель.
При вступлении в колхоз обобществлялись основные средства сельскохозяйственного производства: весь рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь (плуг, сеялка, борона, молотилка, косилка), семенные запасы, кормовые средства в размерах, необходимых для содержания обобществленного скота, хозяйственные постройки, необходимые для ведения артельного хозяйства, и все предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства. Данное положение было зафиксировано и в предыдущем Уставе 1930 г. [17]. Также вступающие должны были внести денежный взнос в размере от 20 до 40 рублей на двор [18].
Новым уставом предусматривалось усиление мер ответственности за «бесхозяйственное и нерадивое отношение к общественному имуществу, за невыход без уважительных причин на работу, за недоброкачественную работу» и за другие нарушения трудовой дисциплины и устава. Правление колхоза могло наложить за них взыскания (переделать недоброкачественную работу без начисления трудодней, предупреждение, выговор, порицание на общем собрании, занесение на черную доску, штраф в размере до пяти трудодней, перемещение на низшую работу, временное отстранение от ра- боты) либо исключить из колхоза, а в ряде случаев (расхищение общественной колхозной и государственной собственности, вредительское отношение к имуществу и скоту артели и машинам машинно-тракторной станции) предусматривалось судебное преследование. Причем последнее как мера наказания использовалось достаточно широко уже с момента формирования первых советских коллективных хозяйств, что не раз обращало на себя внимание центральных органов власти. С июля 1935 г. по 15 апреля 1936 г. на основании постановления ЦИК и СНК СССР «О снятии судимости с колхозников» в Восточно-Сибирском крае была снята судимость с 2539 человек [21, с. 740].
Устав 1935 г. позволял расширить статью 6 раздела IV, касающуюся деятельности артели. Крайком ВКП(б) и Восточно-Сибирский Крайисполком, учитывая особенности местных условий, рекомендовал сельскохозяйственным артелям внести ряд дополнений в уставы, в частности, предусматривались вопросы: «раннего подъема и хорошей обработки паров, а также раннего проведения зяблевой вспашки с тем, чтобы парами и зябью обеспечить всю посевную площадь зерновых и технических культур; раскорчевки и расчистки от кустарников новых земельных участков, оставление из наличных лесов, при вырубке и раскорчевке, лесозащитных полос; производства семян трав и корнеплодов и сбора семян дикорастущих трав; посева огородных культур в колхозах и у колхозников, расширения поливных огородов, развития парниковых хозяйств, а также производства огородных семян; развития охотничьих промыслов; увеличения и качественного улучшения конского поголовья и доброкачественного пополнения и выращивание высокого качества фонда лошадей РККА; постройки теплых конюшен, скотных дворов, телятников, родильных помещений, свинарников, кошар и изоляторов, а в районах зимовки на подножном корму – постройки станов с помещениями для приплода» (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 21. Л. 4-6).
Различные варианты организации деятельности в коллективных хозяйствах Советского Союза предыдущих лет показали, что ее осуществление в сельском хозяйстве имеет свою специфику. С точки зрения повышения ответственности работников колхоза, подконтрольности и ухода от «обезличивания» в работе наиболее эффективно показал себя бригадный способ организации труда. И если Устав 1930 г. не фиксировал конкретную форму организации труда, то теперь это сделал Устав 1935 г. Согласно последнему, работники разбивались по полеводческим (на срок не менее полного севооборота) или животноводческим (не менее чем на трехлетний срок) производственным бригадам. За каждой из них закреплялся необходимый инвентарь, скот, постройки. Наем труда в колхозе допускался только для «лиц, обладающих специальными знаниями и подготовкой», например, агрономы, инженеры, техники и т.п. или в «исключительных случаях», когда срочные работы не могли быть выполнены в требуемый срок имеющимися силами членов артели при полной их нагрузке, а также для строительных работ.
Другое важное положение Устава 1935 г. – сдельная оплата труда колхозника, хотя ее рекомендовал и Устав 1930 г., но на содержательной части не останавливался. Заработная плата работника сельского хозяйства всегда зависела и зависит от объема и качества произведенной сельскохозяйственной продукции и сопряжена со значительными рисками природно-климатического характера. Несовпадение рабочего периода со временем производства продукции приводит к тому, что результаты потраченного труда определяются значительно позже окончания трудового процесса. Эта особенность не может не сказаться на формировании фонда оплаты труда. Практика оплаты труда колхозника 1920-х – 1930-х гг. показала, что уравнительный способ в сельском хозяйстве не уместен. Поэтому труд колхозника привязали к нормам выработки и расценки каждой работы в трудоднях, которые разрабатывались правлением артели и утверждались общим собранием колхозников, а также зависели от квалификации работника, сложности, трудности и важности работы для артели, от состояния рабочего скота, машин, почвы.
Прежде чем начислить и выплатить колхозникам средства по трудодням, организация должна была рассчитаться с государством (сдать по обязательным поставкам и по договору контрактации), с МТС (натурплата), сформировать семенной и кормовой фонды (10-15% от годовой потребности), произвести отчисления в страховой фонд, создать фонд помощи инвалидам, старикам, нетрудоспособным, нуждающимся семьям красноармейцев, сдать на содержание детских яслей и сирот (не более 2% валовой продукции), а также «выделить в размерах, определяемых общим собранием членов артели, часть продуктов для продажи государству, на рынке» [18].
Данное положение Устава в дальнейшем корректировалось. Так, с 1938 г. начисление продукции на трудодень зависело от количества отработанных дней за весь год, а не как ранее – на момент распределения (Архивный отдел Администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования, далее – АО АМР Усольского РМО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 11). И если в первой половине 1930-х гг. существовали колхозы, которые работали без производственного плана, на что контролирующие органы периодически обращали внимание, делая замечания, то теперь обойтись без данного документа было невозможно. Сначала подсчитывалось количество трудодней, выработанных членами колхоза и трактористами на день распределения, потом – на основе производственного плана и данных учета его выполнения выявлялось, какие работы необходимо выполнить колхозу до конца года и сколько будет начислено трудодней за эту работу.
Сформировался механизм поощрения и наказания. Так, лучшим бригадам, получившим урожай и выход продукции выше среднего по колхозу, производилось дополнительное начисление трудодней до 15%, а бригадам, получившим урожай и выход продукции ниже колхозного – снижение трудодней до 10%. Данные итоги утверждались общим собранием. Такая практика создавала атмосферу соревновательности, стремления добиться бо́льших результатов.
В целом изменения на селе способствовали росту доходов колхозов. Так, например, в Усольском районе в 1937 г. доходы составили 2259 тыс. руб., в 1938 г. – 3906 тыс. руб. Соответственно, увеличилась и стоимость трудодня: в колхозе «им. Чапаева» – с 2 руб. 50 коп. в 1937 г. до 6 руб. 70 коп. в 1938 г.; в колхозе «Новая Заря» – с 2 руб. 06 коп. до 4 руб. 20 коп. (АО АМР Усольского РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 11об.). Конечно, такие результаты были не во всех коллективных хозяйствах, но факт их наличия заставлял другие колхозы стремиться к достижению более высоких показателей.
Помимо трудоотдачи были и другие способы увеличения трудодней. Так, согласно решению ЦК и СНК от 08 июля 1939 г., в случае продажи колхозниками коровы или нетеля по государственным закупочным ценам им помимо денежной платы начислялось от 10 до 20 трудодней (Государственный архив Иркутской области, далее – ГАИО. Ф. р-2486. Оп. 1. Д. 12. Л. 15).
Другим нововведением, появившимся в Уставе 1930 г. и оформившемся в Уставе 1935 г., стала возможность для колхозника иметь участок приусадебной земли. По постановлению Восточно-Сибирского Крайисполкома и Крайкома ВКП(б) по вопросу «О работе по прирезке приусадебных земель колхозным дворам в соответствии с новым уставом сельхозартели», оформленном как секретное приложение к протоколу № 79 заседания бюро Восточно-Сибирского Крайкома ВКП(б) от 26 ноября 1935 г., были определены следующие сроки: закончить подготовительную работу по выделению приусадебных участков для колхозных дворов к 15 января 1936 г., а собственно выделение участков «в натуре» – к 1 марта 1936 г. (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 277. Л. 213).
Подготовительные работы должны были заключаться в обмере приусадебных участков и неиспользованных приусадебных земель, находившихся в пользовании единоличников, и в составлении схематической карты по населенным пунктам, с нанесением на нее приусадебных земель. В случае нехватки земель для нарезки колхозным дворам приусадебных участков до низшего предела необходимое количество земли могло быть «прирезано» из прилегающих к усадьбам полевых или иных земель колхозов без ломки севооборота. В этих случаях колхоз был обязан дополнительно освоить в 1936 г. соответствующую площадь целины. Остающаяся после наделения колхозников часть свободной приусадебной земли в селении должна была использоваться колхозами для общественных нужд (строительство общественных зданий, посадка садов, посевов конопли и проч.), а часть земли – остаться в резерве для наделения выделяющихся дворов, приема новых членов, переселенцев и т.п.
По Уставу 1935 г., размеры приусадебной земли (земля под жилыми постройками не учитывалась) могли колебаться в среднем от 0,25 га до 0,5 га, для отдельных районов – до 1 га, их дифференциация ставилась в зависимость от областных и районных условий. В Восточной Сибири были установлены следующие предельные нормы:
-
а) для западных районов (Предбайкалье) – 0,25 га (Слюдянский, Иркутский, Усольский, Черемховский) и от 0,25 до 0,50 га (Зиминский, Тулунский, Братский, Жигаловский, Заларин-ский, Казачинско-Ленский, Качугский, Кирен-ский, Кировский, Куйтунский, Тангуйский, Усть-Удинский, Шиткинский, Балаганский);
-
б) для восточных районов (Забайкалье) – 0,35 га (пригородные колхозы Читинского и
- Усть-Карийского районов), от 0,35 до 0,50 га (остальные колхозы Читинского района и все колхозы Петро-Забайкальского района), от 0,50 до 0,75 га (в Балейском, Газ. Заводском, Карым-ском, Красно-Чкойском, Нерчинском, Нер.-За-водском, Сретенском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Алек. Заводском, Шахтамин-ском, Кыринском, Шилкинском рацонах) и до 1 га (в Акшинском, Борзинском, Оловянинском, Быркинском районах) (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 281. Л. 1-2).
Позднее, в июне, эти нормы были пересмотрены и немного увеличены. Так, было рекомендовано установить размер приусадебной земли в районах: Иркутском, Нижне-Илимском, Усть-Кутском, Киренском, Черемховском, Тайшетском, Усть-Карийском, Сретенском, Читинском (в 25 километровой зоне), Красночи-койском, Шахтоминском, Балейском и Петрово-Забайкальском – от 0,6 до 1 га, в остальных районах – от 0,80 до 1 га. Документ предупреждал, что все фактические изменения должны быть произведены осенью 1935 г., т.е. по окончанию сельскохозяйственных работ (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 277. Л. 80-80об.).
Устав 1935 г. в отличие от предыдущего документа расширил личные нормы содержания скота, что было очень важно для крестьянина. Власти подошли к этому вопросу дифференцировано, учитывая природно-климатические условия развития животноводства и земледелия. Всего было выделено четыре группы районов:
-
1-я группа – зерновые, хлопковые, свекловичные, льняные, конопляные, картофельные, овощные, чайные и табачные районы;
-
2-я группа – земледельческие районы с развитым животноводством;
-
3-я группа – районы кочевого и полукочевого животноводства, где земледелие имеет небольшое значение;
-
4-я группа – районы кочевого животноводства, где земледелие «почти не имеет никакого значения».
Для Восточной Сибири были определены вторая, третья и четвертая группы (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 277. Л. 80об.-81).
Колхозники второй группы районов могли иметь в личном пользовании 2-3 коровы, молодняк, от 2-х до 3-х свиноматок с приплодом, от 20 до 25 овец и коз, неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 ульев. Например, районы: Акшинский, Александровско-Заводский, Балаганскй, Балийский, Братский, Борзинский, Быркинский, Газимуро-Заводский,
Нижне-Илимский, Слюдянский, Сретенский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, Черемховский, Читинский и др. Колхозники третьей группы районов могли иметь в личном пользовании от 4 до 5 коров, молодняк, от 30 до 40 овец и коз, от 2-х до 3-х свиноматок с приплодом, неограниченное количество птицы и кроликов, до 20 ульев, а также по одной лошади или по одной кумысной кобылице (Бодайбинский и Катангский районы, Тофаларский национальный совет, Витимо-Олекминский округ). Четвертая группа – от 8 до 10 коров, молодняк, 100-150 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы, до 10 лошадей и от 5 до 8 верблюдов (большинство аймаков БМАССР). Для ряда дворов отдельных колхозов Витимо-Олек-минского округа, Катангского и Бодайбинского районов, Тофаларского национального совета и части аймаков БМАССР разрешалось иметь в личном пользовании до 150 важенок, молодняк оленей в неограниченном количестве и до 50 взрослых оленей.
Приусадебные участки сыграли определенную роль в экономике страны, т.к. колхозники обязаны были выполнять нормы сдачи сельскохозяйственных продуктов, уплачивать сельхозналог. В то же время, наличие приусадебного участка стало «подушкой безопасности» как для самого крестьянина, так и для государства, т.к., переведя крестьян на сдельную оплату труда и привязав их к годовому урожаю, власть, с одной стороны, обезопасила себя от повторений «голодных лет» начала 1930-х гг., с другой – реализовала мечту крестьянина-хозяйственника – дала землю (пусть не в собственность, но, по сути, в «пожизненное» пользование), тем самым привязала крестьянина к селу и приостановила миграционные потоки, возникшие в результате коллективизации и индустриализации.
Другой важный момент, вытекающий из положений Устава 1935 г., – это попытка в очередной раз продемонстрировать преимущественное положение колхозника над единоличником. Несмотря на то, что еще в 1933 г. было объявлено о полной победе коллективизации в Восточной Сибири (в июле 1935 г. ее показатели по Восточно-Сибирскому краю составили 85,6%, по Красноярскому краю – 88,0% [19, с. 1358], (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 277. Л. 178)), значительная прослойка единоличников – крестьян, не желающих вступать в колхозы или не могущих это сделать (например, бывшие крестьяне-кулаки, лишенные избирательных прав и др.), все еще существовала. Документы по отдельным районам Восточно-Сибирского края свидетельствуют об их существенном количестве. В акте о передаче Кировскому району восьми сельсоветов Усольского в начале 1935 г. приводится следующая статистика: на данной территории имеется 18 колхозов с 951 хозяйством и 428 единоличных хозяйств. Таким образом, единоличников оказалось 31% (АО АМР Усольского РМО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 5).
Хотя, необходимо отметить, что Устав 1935 г. по сравнению со своим предшественником смягчал условия вступления в колхоз для отдельных граждан. В частности, как исключение, разрешалось вступление в него «детей лишенцев, которые в течение ряда лет занимались общественно полезным трудом и добросовестно работали» и «бывших кулаков и членов их семейств, которые, будучи высланы за противо-советские и противоколхозные выступления, и в местах новых поселений в течение трех лет своей честной работой и поддержкой мероприятий Советской власти показали, что они исправились» [18].
Ставя задачу тотальной коллективизации деревни и создавая для этого условия, в том числе через Устав 1935 г., советская власть еще раз подчеркивала, что в преимущественном положении будут находиться колхозники, в отличие от единоличников. Так, например, решая вопрос обеспечения землей колхозов, предполагалась в том числе отрезка «лишних» земель (до 10%), занимаемых единоличниками. А последним предлагалось, по тому же Уставу 1935 г., отводить полевые участки, расположенные за массивами земель колхоза, в концах полей севооборота, даже если эти земли были не лучшего качества. Размер приусадебной земли единоличных хозяйств не должен был превышать размера земли колхозника в соответствующем районе.
С целью привлечения единоличника в колхоз было разработано постановление СНК СССР № 373 от 19 августа 1935 г. «О льготах единоличникам, вступающим в колхоз и продающим корову колхозной ферме», они при вступлении в колхоз и продаже коровы или нетеля колхозной товарной ферме по государственной цене освобождались на два года от обязательной поставки государству молока и мяса. Таким образом, документ имел целью подтолкнуть единоличников к вступлению в колхозы. Аналогичные льготы распространялись и на колхозников, которые вырастили в своем хозяйстве корову или нетеля и сдали государству по закупочной цене (ГАИО. Ф. р-600. Оп. 1. Д. 1329. Л. 92об.-93).
Другие документы также свидетельствуют о более лояльной политике государства в отношении колхозника в сравнении с единоличником. В частности, это проявлялось, например, в нормах сдачи государству картофеля: у колхозников они составили в Восточно-Сибирском крае в 1935 г. от 1,6 до 12 центнеров с одного гектара в зависимости от сельсовета, у единоличных хозяйств – от 2 до 20 центнеров, а для кулацких хозяйств норма сдачи картофеля увеличивалась на 30% по сравнению с единоличниками (ГАНИ ИО. Ф. 123. Оп. 15. Д. 277, Л. 86-86об.). То же касается и нормы помола на мельницах в 1935 г.: для единоличных хозяйств – 30 фунтов на одного едока в месяц до выполнения единоличным хозяйством установленного для него обязательства по сдаче зерна государству, а для колхозников и колхозных хозяйств никаких ограничений не было (ГАИО. Ф. р-600. Оп. 1. Д. 1329. Л. 92об.-93). Хотя, нужно отметить, такие «перевесы» были не во всем. Так, например, Заларинский райисполком в 1939 г. на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1937 г. освободил от уплаты сельского культсбора хозяйства престарелых – не только колхозников, но и единоличников, не имеющих в своем хозяйстве трудоспособных членов семьи (ГАИО. Ф. р-2486. Оп. 1. Д. 1. Л. 68).
Таким образом, Устав сельскохозяйственной артели 1935 г. закрепил преобразования, совершенные советской властью на селе за предыдущие годы, детализировал ряд положений Устава 1930 г. и подчеркнул, что единственной формой хозяйствования на селе, интересной государству, и в дальнейшем будет коллективное хозяйство. Колхоз как социальный институт приобрел черты «гибкой» системы, позволяющей людям получать образование, профессию, иметь социальные гарантии, возможность занимать руководящие должности, низкий, но относительно стабильный доход. При этом меры, используемые государством для расширения сети колхозов, являлись практически безальтернативными для единоличника и подталкивали его к вступлению в коллективное хозяйство.
Список литературы Устав сельскохозяйственной артели 1935 Г.: содержание и реализация (по материалам восточной сибири)
- Вербицкая О.М. Социальные последствия советской мобилизационной экономики 1930-х гг. // Труды института Российской истории РАН. 2013.№ 11. С. 185-205.
- Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. М.: Наука, 1978.
- Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму (Социально-экономическое развитие сибирской деревни в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 1926-1937 гг.). Новосибирск: Наука, 1973.
- Данилов В.П., Ивницкий Н.А. Ленинский кооперативный план и его осуществление в СССР // Очерки Истории коллективизации сельского хозяйства в союзных республиках. М.: Госполитиздат, 1963. С. 3-69.
- Есиков С.А. Коллективизация сельского хозяйства как средство модернизации // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 4. С. 21-27.