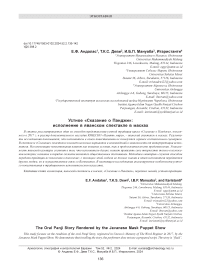Устное «Сказание о Панджи»: исполнение в яванском спектакле в масках
Автор: Андалас Е.Ф., Деви Т.К.С., Мануаба И.Б.П., Итаристанти
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из способов представления устной традиции цикла «Сказание о Панджи», внесенного в 2017 г. в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира», - яванский спектакль в масках. Результаты исследования показывают, что исполнитель в своем повествовании не пользуется заранее составленным сценарием. В спектакле «Сказание» пластично и имеет несколько вариантов и нововведений в зависимости от интерпретации исполнителя. На композицию повествования влияют как внешние условия, так и продолжительность представления. Уникальность яванской культуры состоит в том, что исполнитель-даланг может проявлять свое творчество только в изложении истории; название и порядок сюжета являются общественным достоянием. Методика «нянтрик» служит способом передачи традиции из поколения в поколение; с помощью этой модели не только знания и опыт исполнителя передаются другим людям, но и осуществляется связь со Всевышним. В настоящем исследовании анализируются особенности устного повествования в традиционном исполнительском искусстве.
Композиция, яванский спектакль в масках, "сказание о панджи", передача знаний, устная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/145147175
IDR: 145147175 | УДК: 398.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.136-142
Текст научной статьи Устное «Сказание о Панджи»: исполнение в яванском спектакле в масках
Индонезия – многокультурная страна, где насчитывается 1 340 этнических групп, каждая из которых имеет собственные формы культурного наследия. Она богата средствами культурного самовыражения [Rianti et al., 2018; Santyaningtyas, Noor, 2016], и одним из них является цикл «Сказание о Панджи», внесенный в реестр всемирного документального наследия ЮНЕСКО «Память мира» в 2017 г. [Tol, 2019]. Этот оригинальный яванский цикл возник во времена империи Маджа-пахит [Poerbatjaraka, 1968, h. 404; Munandar, Susantie, 2014]. В нем рассказывается история любви между Панджи Ину Кертапати, принцем королевства Дженг-гала, и Секартаджи или Чандракираной, принцессой королевства Кедири. Их любовь покрыта завесой тайны; история сопровождается переменами внешнего вида героев. Для того чтобы найти друг друга, принц и принцесса отправляются в путешествие, по пути вступая в борьбу с врагами. В конечном итоге они одерживают победу, встречаются и играют свадьбу.
«Сказание о Панджи» до сих пор очень популярно среди жителей Юго-Восточной Азии, как различных островов, так и материковой части, включая Яву, Бали, Палембанг, Макассар, Ломбок, Малайзию, Камбоджу и Таиланд [Fang, 2013, h. 115–116; Kievеn, 2014, h. 29–30; Poerbatjaraka, 1968, h. 408–410; Zoetmulder, 1994, h. 532–533]. В древних рукописях и народных сказаниях встречаются многочисленные варианты этого памятника литературы. Известно не менее 239 рукописей, 140 из которых являются яванской версией цикла [Kaeh, 1989, h. 349–357]. Многие варианты устной традиции не задокументированы. К данному циклу можно отнести и несколько сказок, в т.ч. Ке-онг Эмас («Золотая улитка»), Тимун Эмас («Золотой огурец»), Панджи Ларас , Андхе-андхе Лумут и Ке-тек Огленг («Заносчивая обезьяна») [Saputra, 2014]. Поскольку «Сказание о Панджи» включает множество вариантов с общими именами героев и сюжетом, С. Робсон не без оснований предлагает рассматривать его как жанр [Robson, 1971, р. 12–13].
«Сказание о Панджи» до сих пор служит основным сюжетом для театрализованных представлений в различных частях о-ва Ява, например для спектакля в масках лакон * «Лахире Панджи» («Рождение Панджи»)
*Термин лакон в яванской культуре соответствует понятию «драма» западной традиции.
в падепокане* Мангун Дхарма в Маланге. В отличие от других повествований, в нем рассказывается история любви родителей Панджи Асмарабангун – Панджи Амилухур и Деви Сакьянинграт. Этот спектакль представляет значительный интерес для исследования, поскольку основан на устной традиции, сохранившейся в местной общине. Поэтому «Рождение Панджи» неразрывно связано с социокультурной средой, в которой исторические и художественные элементы передаются из поколения в поколение. Эта история сочинялась, передавалась и исполнялась устно.
Представление «Рождения Панджи» в спектакле вызывает несколько вопросов, например, как исполнитель сочинял свою историю и как она передается из поколения в поколение. Дело в том, что «Сказание о Панджи», лежащее в основе спектакля, не имеет стандартного текста (сценария), и исполнение основывается только на памяти о предыдущих представлениях. Исполнитель слушает устную историю, запоминает, рассказывает, а затем устно передает ее следующему поколению исполнителей. Более того, «Сказание о Панджи» на спектакле в масках представлено в виде драматического танца, поэтому крайне важно понимание культурных особенностей, унаследованных от устных традиций предков.
В ранних исследованиях «Сказания о Панджи» в первую очередь рассматривались вопросы происхождения данного цикла. В.Х. Рассерс высказал предположение об исторической связи между этим литературным памятником и жизнью короля Аирланги, который правил Восточной Явой в начале XI в. н.э., а также между Кеном Ангроком, основателем королевства Сингасари, и Раденом Виджая, основателем королевства Маджапахит и возможным прототипом Пан-джи [Rassers, 1922, p. 132–136]. К. Берг [Berg, 1928, h. 189–190] считал, что «Сказание о Панджи» получило распространение между 1277 и 1400 г. н.э. Однако, по мнению Р.М. Поэрбатжарака [Poerbatjaraka, 1968, h. 404], оно возникло в период расцвета королевства Маджапахит и распространилось по архипелагу гораздо позже. Вопрос о том, когда на архипелаге сформировался цикл историй о Панджи, до сих пор остается открытым.
Проводились также исследования древних рукописей «Сказания о Панджи», включая попытки его перевода В.Х. Рассерсом [Rassers, 1922, р. 14–19] и Р.М. Поэрбатжараком [Poerbatjaraka, 1968, h. 3–369]. К.Х. Сапутра проанализировал структуру различных вариантов цикла [Saputra, 1998, h. 1–136]. Кроме того, изучаются спектакли в Маланге, представляющие «Сказание о Панджи». Эти исследования можно разделить на пять групп в зависимости от их направленности. Первая включает анализ структуры и символики спектаклей [Astrini, Amiuza, Handajani, 2013; Hidajat, Pujiyanto, 2014; Minarto, 2010], вторая – изучение изменений и функций театра в масках (см., напр.: [Prasetyo, 2004]). Третья группа объединяет работы, в которых анализируются трансформации «Сказания о Панджи» в ходе спектаклей (см., напр.: [Hikmah, 2011, h. 11]), четвертая – исследования, посвященные историкосоциальным особенностям масочных представлений в Маланге (см., напр.: [Kamal, 2010]). Наконец, в работах пятой группы рассматривается система ценностей, которую передают спектакли (см., напр.: [Sumintarsih, Munawaroh, Purwaningsih, 2012, h. 60–90]).
К проблеме устного варианта «Сказания о Пан-джи» в масочных представлениях в Маланге ранее исследователи не обращались. Также можно отметить, что в различных подходах к изучению этих спектаклей не уделялось должного внимания устной традиции в целом. Исследователи брали за основу не исполнение «Сказания», а его текст. Также не учитывался контекст и процесс создания цикла. Поэтому «Сказание о Панджи», представленное в спектаклях, которые основаны на устной традиции, зачастую рассматривалось как письменная литература, хотя особенности устной и письменной традиций сильно различаются. В спектаклях исполнитель не использует готовый текст, рассказывает истории исключительно по памяти. Он вспоминает исполнение предыдущего сказителя, который, в свою очередь, основывался на устных источниках предшественников. Поэтому каждая история может иметь разные варианты. Это отличается от современной формы драматического спектакля, где используется стандартный текст в виде диалога, который актеры заучивают наизусть и воспроизводят в каждом спектакле.
Целью настоящего исследования является углубление знаний об устной литературе через изучение особенностей устной традиции «Сказания о Панджи». Актуальность исследования обусловлена несколькими причинами. Во-первых, произведение, передаваемое из уст в уста, может быть утрачено, если его не зафиксировать в письменной форме. Во-вторых, из-за отсутствия стандартного текста каждое представление подразумевает процесс творческого воссоздания, что упускало сь из виду в предыдущих исследованиях. В-третьих, эти исследования были сосредоточены на структурных и семиотических особенностях исполнения и игнорировали само сказание. В-четвертых, новый взгляд на данное явление можно использовать для сохранения и развития культурного туризма.
«Сказание о Панджи» и падепокан в Маланге
Взаимосвязь между «Сказанием о Панджи» и сценическим искусством, в особенности драматическим танцем, на Восточной Яве имеет длительную историю. В X–XI вв. н.э. здесь возникло исполнительское искусство, известное как ракет ( rakět ) [Soedarsono, 1990, р. 5]. В отличие от ваянг вванг ( wayang wwang ), в котором исполняются истории из «Рамаяны» и «Махабхараты», в ракете инсценируется сюжет из «Сказания о Панджи». Ракет также служит другим названием для гамбуха ( gambuh ) на о-ве Бали [Robson, 1971, р. 33]. В «Нагаракертагаме», написанной Мпу Прапанчей, упоминается об участии короля Хаямвурук и его отца (Кертавардхана) в придворных представлениях ракет [Soedarsono, 1990, р. 7]. Это свидетельствует о том, что танец в масках был популярен тогда при дворах знати. Со временем на Восточной Яве искусство ракет , которое первоначально было королевским, превратилось в народное [Sumintarsih, Munawaroh, Purwaningsih, 2012, h. 27]. Его широкое распространение в регионе прекратилось с падением Маджапахита и перемещением центра королевства в Демак на Центральной Яве. Одна из причин упадка состояла в том, что султанат Демак развивал свою культуру в исламском стиле. Тем не менее масочные представления в период исламских царств не прекратили свое существование. Как известно, Сунан Калиджага был организатором таких спектаклей [Sumarsam, 2003, h. 47; Sumintarsih, Munawaroh, Purwaningsih, 2012, h. 27], что объясняет их популярность уже после исламизации Явы.
Считается, что спектакли в масках впервые появились в Маланге в начале XX в. По словам регента Маланга того времени Сурио Ади Нинграта, в 1928 г. искусство танца в масках в регентстве развивалось очень быстро. Многие известные актеры были родом из д. Пу-кансанга р-на Тумпанг [Hidajat, 2008, h. 17–18]. Источником информации о развитии танцевального театра в масках в Маланге является работа Т.Г. Пежо [Pigeaud, 1938, р. 79–158]. Это драматическое представление, в котором участвуют танцоры в масках, следуя сюжетной линии, повествуемой далангом*. Последний вы- ступает в роли составителя повествования и рассказчика от лица героев. Танцоры реагируют на все, что говорит даланг. Помимо эстетики танца, спектакль содержит значительный литературный компонент.
Данное театрализованное представление имеет множество различных наименований. Некоторые называют его «Топенг Дхаланг» («Маска даланга ») [Timoer, 1979, h. 1], «Драма-Тари Ваянг Топенг» («драматический танец спектакля в масках») [Supriyanto, Pramono, 1997, h. 1–8] или «Ваянг Топенг Маланг» («Спектакль в масках Маланга») [Hidajat, 2008, h. 29]. В местной общине данная постановка известна как «Топенг Пан-джи» («Маска Панджи») с указанием названия паде-покана , например «Топенг Панджи Джабунг» («Маска Панджи Джабунга»), «Топенг Панджи Кедхунгманг-га» («Маска Панджи Кедхунгмангга») [Timoer, 1979, h. 1–4]. Жители Маланга называют это представление «Спектакль масок Панджи», поскольку в каждой постановке оно основывается на повествовании о Панджи.
Ни в одной из научных работ на протяжении всего периода изучения истории спектакля в масках в Маланге не подвергается сомнению существование человека по имени Рени – основоположника этих представлений [Hidajat, 2008, h. 17–18; Murgiyanto, Munardi, 1979, h. 14; Sumintarsih, Munawaroh, Purwaningsih, 2012, h. 28; Supriyanto, 1994, h. 6; Supriyanto, Pramono, 1997, h. 5]. Он являлся знаменитым далангом , резчиком масок и искусным танцором. Рени был родом из д. По-ловиджен и сотрудником Управления регентства Маланг, возглавляемого регентом Сурио Ади Нингратом с 1898 по 1934 г. [Supriyanto, Pramono, 1997, h. 6]. Один владелец плантации сахарного тростника по имени Пэн пригласил его поучаствовать в постановке спектакля в масках. С развитием традиции представлений в д. Пукансонго р-на Тумпанг возникла знаменитая ассоциация исполнителей в масках в регентстве Маланг. По словам информанта Солех Ади Прамоно, одновременно с Рени жил некий человек по имени Руминтен из д. Пукансонго. Считается, что в этой деревне масочные представления возникли в начале XX в. Румин-тен, который был мастером по изготовлению кинжалов крис , а также кукол и масок, обратился к Русману из д. Кемулан с просьбой стать учителем танцев в масках [Ibid., h. 6–7]. Согласно сведениям, полученным от информанта, «Русман из селения Кемулан, деревни Тулус Аю, был дедом Ки Солеха Ади Прамоно». С.М. Мургиянто и А.М. Мунарди утверждают, что «Рус-ман также известен как Тирто» [Murgiyanto, Munardi, 1979, h. 13]. Это подтверждает информант, добавляя вариант Тир. В яванской культуре родителей принято называть именем, основанным на имени их первого ребенка. У г-на Русмана был сын Тиртоното, поэтому его также называли Пак Тирто или дедушка Тир.
За время своей жизни г-н Тирто передал художественные навыки не только своему сыну, но и мно- гим другим людям. Известно, что с ним общались почти все деятели театра в масках в Маланге, такие как г-н Кангсен и его отец из д. Джабунг, г-н Самуд из д. Пукангсанга, г-н Рахим из д. Глагадава, г-н Са-пари из д. Джатигуви и г-н Киман (отец Каримуна) из д. Кедунгманга [Ibid.]. До сих пор в этих местах существуют падепоканы по обучению театрализованному танцу в масках.
Сочинение «Сказания о Панджи»: прошлое и настоящее
История «Рождение Панджи», инсценируемая в спектаклях в масках, представляет собой образец устного творчества. Сюжет и диалоги в них основаны на повествовании исполнителя, который выступает в роли рассказчика и произносит реплики за персонажей. Даланг – ключевая фигура, управляющая всем, что связано с представлением (см. рисунок ). По сути, он является создателем истории, постоянно воспроизводя ее в спектакле. Это отличается от подходов, существовавших до сих пор, например, в фольклористике, где произведение рассматривается как коллективный продукт. Здесь коллективным является пакем (конвенция или традиция), а создание каждого конкретного спектакля индивидуально. Конвенция касается правил, связанных с процессом исполнения, а не сюжетными линиями, которые основаны на интерпретации истории далангом . В создании спектакля присутствует творческий компонент. Это еще раз подтверждает вывод Р. Финнегана о том, что устная литература – продукт индивидов, являющихся частью общества [Finnegan, 1991, p. 10–12; 2012, p. 117].
Спектакль «Рождение Панджи», по ставленный в падепокане Мангун Дхарма, был сочинен и исполнен владельцем последнего Ки Солехом Ади Прамо-но. Его роль как даланга была исключительно важна и состояла в том, чтобы быть не только автором повествования, но и ответственным за все представление. Процесс сочинения рассказа осуществляется далангом без участия других лиц.
Сюжетная линия, которой следует представление, в наши дни остается такой же, как в прошлом. Различия бывают вызваны внешними факторами, такими как уровень образования и технологии, доступные сейчас далангу . В прошлом процесс сочинения истории происходил без использования таких вспомогательных средств, как порядок игры актера, записанный на листке бумаги. По словам информанта, многие даланги не умели читать и писать. В представлении задействованы лишь несколько дополнительных приспособлений, таких как громкоговорители и электронные устройства. В настоящее время в процессе создания спектакля появляются различные новшества, например включение ранее

Сцена из спектакля «Сказание о Панджи» на представлении в масках в Маланге.
не существовавших персонажей, таких как маски слона, полосатой древесной лягушки и дракона.
Сопоставляя процесс сочинения повествования в прошлом и настоящем, можно отметить отсутствие стандартной формы, которая считается окончательным текстом. Под одним и тем же заглавием может существовать множество вариантов. Сказание сочиняется как до, так и во время спектакля. Это наблюдение углубляет понимание устной традиции в дополнение к уже имеющимся выводам ученых о том, что устная литература создается во время исполнения [Lord, 1971, р. 17] или запоминается наизусть [Andrzejewski, Lewis, 1964, p. 45–46; Johnson, 1979].
Перед представлением даланг объясняет актерам порядок их действий. Он важен, т.к. связан с мизансценами, персонажами и танцевальными движениями, запланированными в спектакле. Элементы повествования возникают спонтанно на основе воспоминаний даланга в процессе представления. За сочиненным им рассказом следуют движения актеров. Таким образом, история, разыгрываемая на представлении, никогда не повторяется.
Возможность даланга сочинять повествование на протяжении представления зависит от обстоятельств и продолжительности выступления. Как уже упоминалось, текст развивается и меняется с каждым исполнением. Сравнение трех представлений «Сказания о Панджи» в разных ситуациях и условиях показывает различия в сочинении повествования далангом. В наиболее полном варианте 19 персонажей и много собы- тий. В двух других некоторые из них опущены. В условиях спектакля даланг ограничен по времени, что сужает возможности для творчества. Его повествование основано на собственных записях, в нем девять персонажей. Еще меньше их (шесть) в истории, раска-занной в повседневной ситуации. Различия прослеживаются и в структуре повествования, которую даланг использует для изложения каждого события. В спектаклях с разными внешними условиями даланг всегда будет создавать новую историю. Каждая из них – это переработанный вариант основного сказания.
История, созданная исполнителем, принадлежит ему. Однако название и сюжетную линию может использовать любой человек. Но зрители узнают стиль каждого исполнителя в повествовании истории. Уникальность яванской культуры в том, что творчество даланга связано исключительно с повествованием, в то время как название и сюжет становятся общественным достоянием.
Передача «Сказания о Панджи»
Передача устной традиции является одним из важнейших аспектов в ее изучении, определяя различие между письменной и устной литературой [Finnegan, 1992, р. 106–108; Lord, 1971, р. 129, 137]. Последняя передается из уст в уста, только через рассказывание историй и их прослушивание, без помощи других средств.
Хотя этой проблеме посвящено большое количество исследований, вопрос о том, как осуществляется передача традиции, все еще остается открытым, поскольку каждая культура имеет собственные модели. Так, по мнению Р. Финнегана, «не существует единого процесса устной передачи, применимого к любому типу литературы» [Finnegan, 1979, р. 52].
«Сказание о Панджи», исполняемое на спектакле в масках, – история из устной литературы. Поэтому данный текст отличается от письменного варианта «Сказания». Как во всякой устной литературе, повествование зависит от памяти рассказчика, который, в свою очередь, узнал истории, слушая других людей и смотря их представления. Инсценировка «Рождения Панджи» на спектакле в масках была творением Ки Солеха Ади Прамоно. Это произведение, создаваемое и исполняемое устно. В танцевально-драматическом спектакле роль даланга как сочинителя и рассказчика является основополагающей, и поэтому исключительно важно, как именно он узнал историю.
Передача «Сказания о Панджи» осуществляется посредством нянтрика - традиционного способа узнавания нового в яванской культуре. В культурном отношении это нечто большее, чем просто получение знаний от других людей, как, например, в формальном образовании. Нянтрик – это оказание услуг учителю в обмен на приобретение определенных умений, а также выполнение нескольких практик, связанных с яванскими религиозными воззрениями, которые в наше время считаются в обществе иррациональными. Все обучение и практическая деятельность ученика направлены на получение знаний и служение учителю. Ученик ( кантрик ) помогает наставнику в любом деле. Например, если учитель занимается сельским хозяйством, кантрик поможет ему с полевыми работами, а когда наступит время представления, доставит на место оборудование. Через несколько лет он проходит испытания.
Обучаться могут люди любой расы, возраста и религиозных взглядов. Во время нянтрика необходимо выполнить несколько практик. Все обряды и ритуалы основаны на яванской религиозной традиции кеджа-вен , а не на исламской. Ритуально-мистическая практика тиракаты включает пост. Еще до того, как ислам проник на Яву, уже существовали «традиции соблюдения поста» с различными целями [Yana, 2010, h. 31]. Он считается средством, которое можно использовать для связи со сверхъестественным. Цель соблюдения поста – укрепить разум, чтобы влиять на силу универсума через претерпевание страданий в виде отказа от удовлетворения физиологических потребностей [Haryanto, 2013, h. 25]. Считается, что человек может овладеть силой универсума, чтобы стать ближе к природе и Всевышнему.
Существует два типа даланга: подлинный, или потомственный, и обыкновенный (понкобувоно) – не потомок другого даланга. Наш информант отно сится к первому типу, поскольку его отец (г-н Сапари) был далангом, а мать (г-жа Сиами) происходит из рода мастеров теневого театра в Блитаре.
Как правило, различие между подлинным и обыкновенным далангами заключается в их разных полномочиях на постановку и исполнение спектаклей. По словам информанта, обыкновенный даланг может исполнять пангруватан (ритуал, направленный на устранение зла или избавление человека от неприятностей), если способен на это. Но сначала он должен выполнить нгелакони (условия осуществления яванского тираката ). Информант сообщил, что когда-то один человек, который не был потомком даланга , хотел стать далангом . Однако в итоге желание не осуществилось – он остановился на полпути и женился. Существует поверье, что только подлинный даланг имеет право совершать пангруватан . Согласно верованиям, Бог всегда будет давать продолжателя дела даланга в линии его потомков.
Стать настоящим далангом очень сложно, требования к нему не ограничиваются кровным родством. Процесс передачи навыков основывается на серьезно сти намерений человека, выбравшего этот путь. Даланг должен уметь организовать представление, знать танец, его правила, выучить множество историй в качестве материала для своего выступления, а самое главное – освоить все виды «Сказания о Панджи», т.к. именно оно исполняется на спектакле в масках.
Выводы
Предыдущие исследования показали, что «Сказание о Панджи» является классической историей яванского народа, возникшей в период Маджапахита. Хотя оно зафиксировано в письменной форме, спектакль в масках основан на устной традиции. В представлении даланг не использует стандартный текст (сценарий), он рассказывает историю исключительно по памяти. «Сказание о Панджи» в спектакле имеет варианты в зависимости от интерпретации даланга и нововведения в форме санггитана (ритуал контроля своих страстей ради развития способностей ума). Перемены мизансцен, ранее происходившие во дворе, теперь осуществляются на сцене, и продолжительность спектакля составляет не целую ночь, а несколько часов. Постановка «Рождения Панджи» показывает, что история сочиняется устно не только до, но и во время представления и не существует точной стандартной модели повествования в каждом спектакле. На творческий процесс оказывают влияние внешние условия и продолжительность представления. Для передачи этой устной традиции используется нянтрик - традиционный способ получения знаний. Существуют как наследственные, так и непотомственные даланги .
Настоящее исследование ограничивалось только одним типом «Сказания о Панджи» – в виде традиционного театрализованного представления. В дальнейшем следует всесторонне изучить постановки в других вариантах традиционного театра, а также волшебные сказки, восходящие к «Сказанию о Пан-джи». Необходимо проанализировать процесс возрождения театрализованных представлений, танцевальную эстетику, историю развития «Сказания о Панджи» на спектаклях в масках, а также меры по сохранению традиционных искусств.