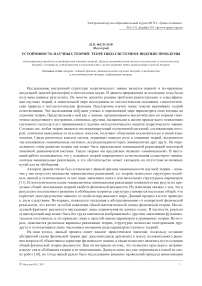Устойчивость научных теорий: теоретико-системное видение проблемы
Автор: Федулов Игорь Николаевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
Анализируется проблема устойчивости научных теорий. Дается сравнительный анализ классических и неклассических теорий с позиции их устойчивости и изменчивости с целью выявить пути минимизации научной теории.
Теория, главный признак минимальности научных теорий, устойчивость и неустойчивость теории, деформация теории
Короткий адрес: https://sciup.org/14821668
IDR: 14821668
Текст научной статьи Устойчивость научных теорий: теоретико-системное видение проблемы
Исследование внутренней структуры теоретического знания является важной и по-прежнему актуальной задачей философии и методологии науки. В данном направлении за последние годы были получены важные результаты. Во многих аспектах решена проблема реконструкции и классификации научных теорий, в значительной мере исследованы ее онтологические основания, гносеологическая природа и методологические функции. Всесторонне изучен также генезис важнейших теорий естествознания. Эти исследования побудили ученых в определенной мере пересмотреть свои взгляды на строение теории. Представления о ней как о знании, организованном исключительно по нормам гипо-тетико-дедуктивного построения, сменились другими, вызванными к жизни прежде всего появлением системного подхода и его применением к задачам методологического анализа теоретического знания. Согласно им, любая теория является эволюционирующей когнитивной системой, составляющие которой, логически выводимые из исходных посылок, получают объяснение исключительно в своей взаимосвязи. Среди различных классов систем, играющих важную роль в описании теорий, выделяются так называемые «минимальные системы», все реализации которых эквивалентны друг другу. На определенном этапе развития теории она может быть представлена минимальной реализацией некоторой линейной динамической системы. Такую теорию мы предлагаем называть «минимальной». В настоящей работе показывается, что у основных теорий современного естествознания существуют эквивалентные минимальные реализации, и это обстоятельство может указывать на отсутствие возможных путей для их обобщения.
Автором данной статьи был установлен главный признак минимальности научной теории – наличие у нее непустого множества эквивалентных реализаций, т.е. теорий, полностью структурно подобных данной и отличающихся от нее лишь значением одного или нескольких структурных параметров [11]. В онтологическом плане эквивалентные минимальные реализации появляются как результат предельно общей экспликации теорией свойств физической реальности. Их появление связано с тем, что в результате постепенного развития и обобщения теории ее структура становится настолько общей, что перестает непосредственно зависеть от свойств окружающего мира. Данный процесс в итоге приводит к двум следствиям. Во-первых, появляется тенденция к абстрагированию от конкретной физической реальности, что влечет за собой появление общей математической схемы физической теории. Исследуемый фрагмент реальности накладывает лишь ограничения на данную схему. В частности, реально существующий мир может быть без труда заменен на воображаемый с другими значениями фундаментальных постоянных, и это приведет лишь к простой замене параметров в уравнениях теории. Во-вторых, появляются различные варианты реализации теории, структурно полностью повторяющие друг друга и отличающиеся лишь численным значением ряда параметров («клоны» теорий).
На наш взгляд, данный процесс имеет важное эвристическое значение, поскольку создание абстрактной схемы физической теории дает дополнительные аргументы в пользу положительного решения вопроса об объективном характере физического знания, а также позволяет наметить пути создания общей физической теории реальности. Нам он интересен потому, что позволяет проследить нетривиальную связь обобщения теории и ее минимизации. Данную связь мы уже затрагивали в одной из своих работ [10], но тогда нашей целью было исследование внешних проявлений процесса минимизации теории. Сейчас же мы намереваемся «заглянуть внутрь» этого процесса, исходя из идеи преемственной взаимосвязи физических теорий. В методологической литературе существует несколько моделей подобной взаимосвязи, так или иначе использующих принцип соответствия. Рассмотрим две из них – модель А.Л. Зельманова [3; 4, с. 5 – 13] и модель Л.Д. Фаддеева [9].
А.Л. Зельманов объединяет фундаментальные физические теории в замкнутую структуру («куб Зельманова»). Исходной подсистемой «куба Зельманова» является ньютоновская механика, в структуру которой не входят фундаментальные константы. С данной подсистемой связаны отношением предельного перехода три теории, каждая из которых характеризуется наличием в структуре одной из фундаментальных констант: ньютоновская теория тяготения, содержащая гравитационную постоянную G ; специальная теория относительности, характеризующаяся наличием предельной скорости распространения взаимодействий – скорости света с ; нерелятивистская квантовая механика, в состав которой входит постоянная Планка h , задающая минимально допустимое значение действия. Остальные теории естествознания получаются объединением трех последних. Сочетание ньютоновской теории тяготения и специальной теории относительности приводит к общей теории относительности (релятивистской теории тяготения), характеризующейся наличием в структуре двух фундаментальных констант – скорости света с и гравитационной постоянной G . Объединение специальной теории относительности и нерелятивистской квантовой механики дает релятивистскую квантовую механику, также содержащую две фундаментальные константы – скорость света с и постоянную Планка h .
Переход от теорий большей степени общности к теориям меньшей степени общности совершается за счет формального аспекта принципа соответствия – предельного перехода. Его содержательный аспект, однако, явно не изображен в модели А.Л. Зельманова. Для «куба Зельманова» специфично также выделение ньютоновской теории тяготения в отдельную теоретическую подсистему, отличную от подсистемы ньютоновской механики. Этот пункт заслуживает специального обсуждения, т.к., на первый взгляд, между ними нельзя установить отношение типа соответствия, поскольку ньютоновская теория тяготения выглядит просто как часть ньютоновской механики, конкретизирующая характер сил, действующих между движущимися телами. Однако, как показал У.А. Раджабов, внимательное рассмотрение позволяет подвести отношение между этими теориями под содержательную компоненту принципа соответствия [7].
Описанная схема преемственной взаимосвязи физических теорий допускают весьма глубокое и нетривиальное обобщение – схему взаимосвязи физических теорий, выдвинутую Л.Д. Фаддеевым [9]. Вскрывая внутренние механизмы перехода от одной теории к другой, эта схема, в частности, позволяет однозначно определить роль фундаментальных констант, характеризующих отдельные подсистемы модели А.Л. Зельманова.
Если рассмотреть процесс эволюции физических теорий (например, классической механики последовательно в ньютоновской, лагранжевской, а затем и в гамильтоновской формулировке), то легко становится заметна общая математическая схема теории, которая в процессе обобщения остается неизменной. Ее основными элементами являются наблюдаемые физические величины и их состояния (Там же, с. 12). В случае перехода от ньютоновской формулировки механики к лагранжевской и гамильто-новской, например, изменениям подвергаются только структура пространства, в котором рассматривается динамическая система, и группа преобразований, относительно которой остаются инвариантными ряд наблюдаемых величин, входящих в теорию [1, с. 10, 48, 129].
Данная структура физической теории сохраняется также при переходе к квантовой механике. Однако, если сравнивать реализации схем классической и квантовой механик, то, согласно Л.Д. Фаддееву, можно заметить их фундаментальное различие. Дело в том, что классическая механика допускает дальнейшее концептуальное обобщение – квантовую механику. С формальной стороны оно заключается в появлении в фундаментальной теоретической схеме этой теории некоторого параметра, отсутствующего в схеме классической механики – постоянной Планка. Согласно Л.Д. Фаддееву, логически вполне допустимо существование множества структурно подобных теорий («семейства квантовых ме- ханик»), содержащих постоянную Планка в качестве параметра и различающихся лишь его численным значением. Переход от одной теории семейства к другой осуществляется изменением значения параметра, и есть только один выделенный случай его строгого равенства нулю – классическая механика (вырождение по параметру h ). При этом все квантовые операции, представляющие собой бесконечные ряды по степеням постоянной Планка, обрываются на первом члене, соответствующем первому, «классическому» приближению.
Структурное подобие «семейства квантовых механик» позволяет Л.Д. Фаддееву ввести следующую аналогию: переход от классической механики к квантовой можно рассматривать как непрерывную гомотопию (деформацию) структуры теории с параметром деформации h . С этой точки зрения классическая механика представляет собой недеформированный вырожденный случай квантовой (параметр деформации h обращается в нуль). Как мы увидим ниже, такая аналогия является весьма плодотворной.
Иными словами, при переходе от классической механики к квантовой имеет место деформация структуры теории, и основное отличие квантовой теории от классической заключается в том, что она не допускает неэквивалентных деформаций, являясь устойчивой (все логически мыслимые варианты квантовой механики похожи друг на друга). При этом вопрос о реальной осуществимости любого из этих вариантов следует оставить за рамками дискуссии: очевидно, что между ними нет принципиального различия – в нашем мире мог реализоваться любой*. Существует еще два подобных примера физических теорий, устойчивых к деформации структуры – специальная и общая теории относительности, где параметрами деформации являются соответственно величина, обратная квадрату скорости света в вакууме, и кривизна пространства-времени [9, с. 15–16].
Таким образом, с точки зрения Л.Д. Фаддеева, квантовая механика (а также любая другая теория, обладающая ненулевым значением параметра деформации (Там же)) является устойчивой, в отличие от классической, допускающей неэквивалентную деформацию – квантовую механику. Переход к квантовой механике означает переход к теории так называемого «общего положения», которую нельзя деформировать, оставаясь в рамках уже фиксированных структур. Главный вывод из этого состоит в следующем: классическая механика в процессе своего развития была закономерно заменена на квантовую, и для предсказания дальнейшего изменения квантовой механики нет оснований (Там же).
Рассматривая различные варианты квантовой механики с разным значением параметра деформации в качестве различных реализаций одной общей схемы теории, легко заметить их полное структурное подобие. Таким образом, можно заключить, что квантовая механика представляет собой минимальную теорию в теоретико-системном смысле. В отличие от нее классическая механика не является минимальной, поскольку не обладает эквивалентными реализациями (схемы реализаций Ньютона, Лагранжа и Гамильтона имеют разную степень общности) [1]. Заметим, что данный подход не делает различий между динамическими и статистическими теориями: тем же самым путем и с тем же результатом можно получить схемы реализаций классической и квантовой статистической механики.
Итак, опираясь на вышесказанное, можно сделать следующий важный вывод: представляя собой элемент множества своих эквивалентных минимальных реализаций, теория является структурно устойчивой – не допускающей неэквивалентных деформаций, т.е. дальнейших концептуальных обобщений в области применимости. Фундаментальные теоретические схемы устойчивых по отношению к деформациям теорий включают как подмножества фундаментальные теоретические схемы неустойчивых. Сравнивая их элементы, легко заметить очевидные признаки минимизации теорий в процессе их приведения в «общее положение». В частности, именно в структуре квантовой механики впервые отчетливо проявляет себя упомянутая общая структура физической теории, которую стало возможным открыть лишь в отвлечении от конкретных физических объектов и их систем при переходе к абстракт ным. Можно считать, что в указанном смысле замены большого количества теоретических схем и моделей одной общей происходит их минимизация.
Сформулируем ряд вопросов, ответы на которые помогут глубже разобраться в сути процессов, приводящих теории к минимальной форме.
-
1. Насколько должны быть «похожи» друг на друга устойчивые варианты теории, и сколько их может существовать в принципе?
-
2. Как отражается на принципах и структуре теорий движение к устойчивым формам?
-
3. Почему построение окончательной схемы теории за всю историю науки ни разу не началось с ее устойчивого варианта, а, напротив, к нему приходили значительно позже, поначалу воспринимая как совершенно иную теорию, никак не связанную с первоначальной «классикой»?
Отвечая на первый вопрос , заметим, что теория систем не ставит никаких ограничений на количество матриц S , задающих изоморфизм между пространствами состояний минимальных реализаций одного внешнего поведения*. В то же время абсолютная величина параметра деформации для внутреннего строения теории принципиального значения не имеет, важно лишь, чтобы он был отличен от нуля. Например, хорошо известно, что в целях вычислительного удобства, чтобы не загромождать выкладки, в квантовой механике и электродинамике часто полагают равными единице постоянную Планка h и скорость света c . Очевидно, что это никоим образом не сказывается на структуре самой теории и тех формул, которые из нее следуют. В новейших теориях «суперобъединения» фундаментальных физических взаимодействий та же участь может ожидать и гравитационную постоянную G . На конечном этапе функционирования теории при вычислении конкретных значений тех или иных величин или поправок к ранее найденным ничто не мешает положить константы равными их истинным значениям. Таким образом, структурно устойчивых реализаций теории, отличающихся друг от друга величиной параметра деформации, может существовать бесконечно много.
На вопрос о том, насколько устойчивые реализации одной теории отличаются друг от друга, теория систем дает однозначный ответ. Различные минимальные реализации одного и того же внешнего поведения данной линейной системы одинаковы с точностью до изоморфизма, выражаемого матрицей S . Иными словами, они имеют абсолютно идентичную структуру и отличаются друг от друга только величиной некоторого параметра, присутствующего во всех вариантах реализации системы (параметра деформации). Можно при желании установить соответствие между каждым конкретным значением параметра деформации и тем или иным значением матрицы преобразования минимальных реализаций данной теории.
Таким образом, устоявшаяся, не опровергаемая экспериментами (и, следовательно, не меняющая своей внутренней структуры) теория может быть описана некоторой минимальной реализацией линейной системы. Такую теорию мы в данной работе называем «минимальной». Она является структурно устойчивой, поскольку любые вариации параметра деформации (представляющие собой простой переход от одного варианта реализации к другому) не меняют структуры теории и поэтому могут быть описаны структурным изоморфизмом систем (описываемым матрицей S ).
Теперь ответим на второй вопрос , сформулированный нами. Принято считать, что переходы от классической механики к квантовой, от преобразования Галилея и законов Ньютона к специальной теории относительности, от ньютоновской теории тяготения к общей теории относительности каждый раз приводили к углублению принципов, лежащих в основе научной картины мира. Считая в общих чертах традиционную точку зрения верной, мы бы хотели ее несколько дополнить.
В процессе генезиса от структурно неустойчивой частной формы к устойчивой теории общего положения ее принципы могут кардинально измениться. Часть их может исчезнуть совсем (как это произошло, например, с постулатом о существовании абсолютных пространства и времени), и им на смену придут новые, которых не было и не могло быть в старой теории, часть может трансформироваться и лечь в основу новой. Общим методологическим правилом трансформации выступают ограничения, налагаемые на принципы избранными моделями, и которые в дальнейшем будут налагаться уже принципами на саму теорию. В качестве примера можно привести отсутствие ограничений на предельную скорость распространения взаимодействий в ньютоновской механике и минимальную величину действия в классической физике, «объем» пространства-времени до появления общей теории относительности. Таким образом, источником ограничений являются деформации теорий, и справедливость какой-либо теоретической схемы в данном «экземпляре» физической реальности устанавливается на основе присутствия или отсутствия тех типов ограничений в теории, которые свойственны соответствующему типу деформации и которые наблюдаются в экспериментах.
В этих условиях становится особенно важной роль принципа соответствия. Мы полагаем, однако, что изучение структуры естественнонаучной теории с позиций общей теории систем, предпринятое нами, позволяет раскрыть новые аспекты принципа соответствия, неизвестные ранее. Согласно нашим представлениям, принцип соответствия требуется всякий раз, когда необходимо объединить в общую концептуальную схему структурно устойчивый и неустойчивый варианты теории и обозначить границы их применимости (например, классической и квантовой механики, ньютоновской динамики и специальной теории относительности, ньютоновской теории тяготения и общей теории относительности).
Поскольку между устойчивой и неустойчивой реализациями теории нет структурного изоморфизма*, то для обеспечения преемственной связи теоретических систем необходим иной механизм – такой, который бы устанавливал их иерархию, тем самым определяя границы применимости теорий. Таким механизмом и является принцип соответствия. Он появляется всегда, когда происходит обобщение какой-либо теории или объединение ряда теорий с целью создания более общей. Данный принцип необходим лишь тогда, когда в пространстве состояний одной реализации системы имеются векторы (состояния), отсутствующие в пространстве состояний другой, с которой требуется «сопряжение». И, наоборот, он не требуется, когда между двумя данными реализациями системы можно построить изоморфизм пространств состояний. Таким образом, технически роль принципа соответствия заключается во взаимном преобразовании некоторых исключающих друг друга состояний реализаций теоретической системы и приведении тем самым их пространств состояний во взаимное соответствие.
Теперь ответим на третий вопрос . Причина развития теории от неустойчивых форм к устойчивым заключается, по нашему мнению, отнюдь не только в меньшей наглядности базовых принципов и теоретических схем устойчивых реализаций по сравнению с неустойчивыми (классическая механика в ее гамильтоновской форме с обобщенными координатами и фазовым пространством тоже не слишком наглядна). Такое направление генезиса теорий имеет место потому (и это неоднократно подчеркивалось философами), что теории создаются на базе и для объяснения того эмпирического материала, который доступен на той или иной стадии научно-технического прогресса. Подобно тому, что человеку, к примеру, из всего используемого им диапазона электромагнитных волн для непосредственного восприятия органами чувств доступно менее 1%, и остальное, не воспринимаемое субъективно, для него не существует, так и на заре научно-технической эры, в XVII – XVIII вв. человечеству была доступна только одна форма движения материи – механическая, а остальные не существовали. В этих условиях естественно существование только одной научно-философской концепции, в основу которой кладутся механика, точно описывающая данную форму движения, и попытки ее обобщения на другие известные или вновь открываемые формы движения (биологическую и социальную).
По мере развития науки и техники и связанного с этим накопления нового эмпирического материала появляется необходимость модификации существующих теорий, в конце концов приводящая к созданию новых (процесс, многократно описанный в методологической литературе [6]). Новые теории (вместе со старыми) тоже в свою очередь являются материалом для изучения и обобщения. Таким образом, появление устойчивой теории – это результат исследования и обобщения структуры физической теории, ибо она вбирает в себя существовавшие ранее схемы описания реальности, и в силу данного обстоятельства устойчивая теория всегда вторична по отношению к ним.
Полезно сравнить развиваемую нами концепцию с выдвинутой около десяти лет назад Э. Эзером концепцией генезиса научной теории как последовательности фазовых переходов [12]. Данная концепция находится в русле идей эволюционной эпистемологии, берущей начало от последних работ К. Поппера [14]. Э. Эзер выделяет в истории науки четыре основных типа фазовых переходов, соответствующих генезису теории:
-
– от дотеоретической стадии науки к первичной теории (например, от вавилонской астрономии к геоцентрической астрономии Птолемея; от описательной естественной истории (Бюффон) к теории эволюции (Дарвин));
-
– от одной теории к другой (альтернативной) теории (так называемая «научная революция» = смена парадигмы, например: от геоцентрической теории Птолемея к коперниканской гелиоцентрической теории планетной системы; от аристотелевской физики к механике Галилея; от теории постоянства видов к теории их изменчивости);
-
– от двух отдельно возникших и параллельно развивавшихся частных теорий к одной универсальной теории (интеграция теорий) (например, от земной механики Галилея и небесной механики Кеплера к универсальной механике Ньютона);
-
– от наглядной, основанной на чувственном опыте теории к абстрактной ненаглядной теории с тотальной сменой основных понятий (например, от классической механики Ньютона к теории относительности Эйнштейна).
Фазовый переход первого типа связан с эволюционным скачком в развитии научного метода: от чисто энумеративной индукции и экстраполяции к эвристической индукции и созданию теории. Научная революция по Э. Эзеру (фазовый переход второго типа) характеризуется тем, что структура теорий остается та же самая, хотя меняется содержание. Более того, это принципиальное структурное тождество, где каждая формально законченная теория предстает как аксиоматически-дедуктивная система, составляет предпосылку смены теорий, которые перестраиваются шаг за шагом по одному стереотипу. Третий тип фазового перехода – от нескольких обособленно разработанных теорий к одной интегративной – по-прежнему остается редким и чрезвычайно значимым событием. Превосходит его по значимости лишь четвертый тип фазового перехода, представляющий собой новый эволюционный шаг в методике опытных наук, т.к. он ведет от индуктивно-конструктивного построения теорий к их саморазвитию, независимому от опыта (здесь выдающимся примером служит общая теория относительности А. Эйнштейна). Однако это означает принципиально новое отношение эмпирических наук к реальности. «Отныне наблюдение перестает быть единственным критерием истинности нашего познания; теперь лишь в рамках теории можно решить, истинно ли само наблюдение» [13, с. 43].
Концепция Э. Эзера, таким образом, развивает идею скачков в динамике научного знания. Автор полагает, что в результате непрерывности не возникает ничего нового [6], а фазовые переходы представляют из себя именно скачки. Такая точка зрения резко расходится с той, что была традиционно принята в отечественной методологической литературе еще не так давно, и согласно которой необходимо «…доказать наличие непрерывности, в процессе развития нашего знания, без чего процесс познания осуществляться не может» [8, с. 102]. Противоречие, однако, можно разрешить, если взглянуть на «цепочку» фазовых переходов с точки зрения развиваемой нами концепции объективного характера перехода теории к устойчивой форме. Согласно ей (и это подчеркивалось выше), переход к устойчи- вой минимальной форме теории невозможен без противоречий, связанных с применением к описанию реальности предыдущих неустойчивых ее форм. Разрешение противоречий может проходить по разным путям: от выдвижения гипотез ad hoc, призванных «спасти» старую теорию, до радикальной «ломки» ее основополагающих принципов. Оно может выступать (и, как правило, выступает) важнейшей предпосылкой перехода к структурно устойчивой минимальной форме теории (которое можно при желании трактовать и как эзеровский «фазовый переход»). Это скачок, но скачок, не перечеркивающий предыдущие этапы развития науки, а органически вбирающий их в себя, иначе не было бы смысла говорить о предельных переходах к неустойчивым формам теории: к ним в таком случае невозможно было бы перейти. В то же время не следует абсолютизировать плавность и поступательность развития науки, ибо так не удастся объяснить появление существенно нового знания, не содержащегося в прежних представлениях.
Сделаем еще одно необходимое дополнение. Не всегда в динамике научного знания теория претерпевает все четыре фазовых перехода. Иногда возможна частичная инверсия (обращение цепочки): после наступления третьей стадии наблюдается возврат ко второй (например, переход от ньютоновского формализма к лагранжевскому, а затем к гамильтоновскому). Подобное поведение теории трудно объяснить строго в рамках подхода Э. Эзера, но можно (и довольно естественным образом) с помощью развиваемой нами концепции. В самом деле, все четыре фазовых перехода ведут к одной глобальной цели – устойчивой к деформациям минимальной теории. Любые изменения формализма являются в таком случае изменением внутреннего состояния системы (ее реакцией) в ответ на внешние условия (новое состояние входа). Если входные данные таковы, что могут быть интерпретированы средствами теории на данный момент, то они не вызывают существенного изменения ее состояния (явление инерции системы). Изменение структуры системы (деформация) происходит лишь тогда, когда входные данные приводят систему к кризису. Как видим, в таком описании не содержится требования строгой поступательности процесса генезиса теории.
Таким образом, мы установили, что ряд естественнонаучных теорий обладает эквивалентными реализациями, отличающимися друг от друга значением структурных параметров, в роли которых выступают фундаментальные постоянные. Основным объективным фактором, благодаря которому происходят процессы минимизации структуры научной теории, является движение теории к устойчивым формам по отношению к деформациям структуры. Движение научной теории к устойчивой форме с необходимостью приводит ее внутреннюю структуру к «минимальной» форме, и обладающая подобной структурой естественнонаучная теория не допускает дальнейших обобщений в своей предметной области.
Список литературы Устойчивость научных теорий: теоретико-системное видение проблемы
- Арнольд В.И. Математические методы классической механики. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
- Виллемс Я. От временного ряда -к линейной системе//Теория систем: математические методы и моделирование: сб. ст./пер. с. англ. Н.И. Осетинского. М.: Мир, 1989. С. 8 -191.
- Зельманов А.Л. О бесконечности материального мира//Диалектика в науках о неживой природе/под. ред. М.Э. Омельяновского, И.В. Кузнецова. М.: Мысль, 1964.
- Зельманов А.Л., Агаков В.Г. Элементы общей теории относительности. М.: Наука, 1989.
- Марков М.А. О трех интерпретациях квантовой механики//Избранные труды: в 2 т. Т. 1. Квантовая теория поля, физика элементарных частиц, физика нейтрино, философские проблемы физики. М.: Наука, 2000.
- Меркулов И.П. Развитие теоретической науки: роль скрытых предпосылок//Вопр. философии. 1987. №7. С. 42 -53.
- Раджабов У.А. Принцип соответствия в физических теориях//Физическая теория (философско-методологический анализ). М.: Наука, 1980. С. 154 -172.
- Соколов А.Н., Солонин Ю.Н. Предмет философии и обоснование науки. СПб.: Наука, 1993.
- Фаддеев Л.Д. Математический взгляд на эволюцию физики//Природа. 1989. № 5. С. 11 -16.
- Федулов И.Н. Минимизация в процессе смены теорий//Философия. Наука. Общество: сб. науч. ст. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. Вып. 11, 12. С. 73 -82.
- Федулов И.Н. Роль минимизации в процессе генезиса естественнонаучных теорий//Философия. Наука. Общество: сб. науч. ст. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. Вып. 11, 12. С. 82 -89.
- Эзер Э. Динамика теорий и фазовые переходы (в связи со схемой научной эволюции по Карлу Попперу)//Вопр. философии. 1995. № 10. С. 37 -44.
- Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4 т./под ред И.Е. Тамма. М.: Наука, 1967. Т. 4.
- Popper K. Ausgangspunkte. Hamburg, 1982.