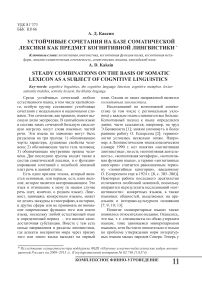Устойчивые сочетания на базе соматической лексики как предмет когнитивной лингвистики
Автор: Каксин Андрей Данилович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Комплексное финно-угроведение
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается семантическая структура устойчивых сочетаний хантыйского языка, сформировавшихся на базе соматической лексики (сочетаний типа sam?m vo?la 'есть хочу', буквально: сердце мое просят). Цель работы - структурировать представления о семантической структуре устойчивых словосочетаний.
Когнитивная лингвистика, когнитивная функция языка, когнитивная метафора, лексико-семантическая сочетаемость, соматическая лексика, хантыйский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14720589
IDR: 14720589 | УДК: 81'373
Текст научной статьи Устойчивые сочетания на базе соматической лексики как предмет когнитивной лингвистики
Среди устойчивых сочетаний любого естественного языка, в том числе хантыйского, особую группу составляют устойчивые сочетания с модальными и оценочными словами. Эти сочетания, как правило, имеют высокую долю экспрессии. В хантыйском языке в составе таких сочетаний большую смысловую нагрузку несут слова именных частей речи. Эти имена по значению могут быть разделены на три группы: 1) обозначающие черты характера, душевные свойства человека; 2) обозначающие части тела человека; 3) обозначающие внутренние органы человека. Две последние группы входят также в состав соматической лексики, и о функционировании сочетаний с подобной лексикой идет речь в данной статье.
Есть один признак этноса, который является основным, или первым, есть одно явление, которое является всепроникающим. Это язык и отношение к нему (в нашем случае речь идет, конечно, о родном языке). Лингвист, занимаясь конкретным языком, может не делать экскурсы в этнографию, в историю, в другие сферы или не принимать во внимание современные функции того или иного языка, поскольку любой естественный язык в определенный период – это вполне самодостаточная субстанция. Вместе с тем есть целые направления и разделы лингвистики, где аспекты восприятия мира через призму того или иного языка выходят на первый план. Одним из таких направлений является когнитивная лингвистика.
Исследований по когнитивной лингвистике (в том числе с региональным уклоном) с каждым годом становится все больше. Когнитивный подход к языку определился давно; часто ссылаются, например, на труд Э. Бенвениста [1]; можно упомянуть и более раннюю работу О. Есперсена [2]; терминология устоялась несколько позже. Например, в Лингвистическом энциклопедическом словаре 1990 г. нет понятия «когнитивная лингвистика», но есть «когнитивная деятельность», «когнитивная метафора», «когнитивная функция языка», а термин «когнитивные категории» считается равнозначным термину «понятийные категории», введенному О. Есперсеном еще в 1924 г. [8, с. 385–386)]. Некоторые работы последнего десятилетия отличаются особенной новизной, поскольку опираются на результаты исследований «ког-нитивности»: конкретных языков, а также языковых общностей, выделяемых на ареальном и историко-культурном основании [7; 9; 10; 13].
Понятие «миноритарные языки» также появилось относительно недавно. Оказалось, что мы, т. е. специалисты по обско-угорским языкам, тоже занимаемся миноритарными языками, хотя бы чисто описательно и только по проблеме утверждения норм литературных языков малых народов Севера. Теперь у
* Исследование осуществлено при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (Государственный контракт № 02.740.11.0374).
нас есть возможность выхода в более широкую проблематику: в одной новейшей работе утверждается, что будущее – за синтезом описательной, исторической и объяснительной лингвистики, а также за исследованиями по проблемам, а не по условному размежеванию научных дисциплин. Теперь нашей проблемой мы считаем не только проблему развития письменности языков малочисленных народов [6], но и описание наших языков в русле когнитивной лингвистики.
Когнитивный подход к конкретному языку, как правило, подводит к мысли искать в нем признаки самобытности, специфические черты. Та или иная специфика, конечно, всегда обнаруживается. Но часто на поверку оказывается вовсе не самобытность (в смысле – оригинальность), а какая-либо типологическая черта. В свое время мы, в частности, попытались объяснить значимость некоторых грамматических категорий именно в наших языках, объяснить их «неслучайность»: характером видения окружающего мира северным человеком [5, с. 97]. Представляется, что в самодийских и обско-угорских языках можно найти некоторые специфические особенности и в лексической сфере (которые в то же время типологически соотносят данные языки с другими родственными и неродственными языками).
Лексика хантыйского языка и его многочисленных диалектов до сих пор мало изучена. Так, слово в лексикологическом понимании до сих пор не являлось объектом внимания исследователей хантыйского языка. Между тем слово – важнейшая значимая единица языка, которая обозначает предметы, явления действительности и психической жизни человека. Слово фонетически и грамматически оформлено по законам конкретного языка и одинаково понимается коллективом людей, говорящих на одном языке и исторически между собой связанных. В этом отношении очень интересны, в частности, соматизмы (сомонимы, спланхнонимы, остеонимы, ангионимы, сенсонимы). Они обладают большой частотностью в любом языке, встречаются и в устойчивых сочетаниях. Небезынтересна и этимология сома-тизмов хантыйского языка: многие из них восходят к уральскому языку-основе, дают основание для теоретических обобщений о степени устойчивости финно-угорского и угорского компонентов в составе соматиз-мов уральских языков. Результаты такого рода исследования могут быть использованы при написании научной грамматики хантыйского языка, учебника по сравнительноисторической лексикологии обско-угорских языков, сравнительной грамматики уральских языков.
Соматическая лексика относится к пластам наиболее древней лексики хантыйского языка, является одним из источников выявления родства уральских языков, так как в большинстве своем восходит к периоду уральского праязыка. В подтверждение достаточно привести ряд соматизмов хантыйского языка и родственных уральских и финно-угорских языков в восстановленной праформе и с изначальным значением (согласно анатомии и физиологии):
бородавка: * ćüklä или ćükl’ä > ф. syylä , c. čiw’hle , мд. цильгя, сыльгя , мр. шыгыль , в. (др.-в.) süly , sül , cам. ск. šįla ;
глаз: * śilmä > ф. silmä , эс. silm , э. сельме , м. сельмя , мр. сынза , шинча , у. син , синь ( синм , синьм -), к. син ( синм -), х. sem , мс. sam , šäm , в. szem , сам. н. sew ;
кость: * luvę > ф. luu , эс. luu , э. м. ловажа «труп», «мертвец», мр. лу , у. лы , к. лы , х. lŏχ , lăw , мс. lu , сам. н. lī ;
сердце: * śiδ’є или śüδ’є > ф. sydän ( sydämen ), эс. süda , э. седей , м. седи , мр. шÿм , у. сюлэм , к. сьöлöм , х. səm , мс. sim , šəm , в. szív ( szivet ), сам. н. śej [11, с. 400–401)];
ср. также: * lewle «дыхание, дух, душа» (совр. х. łił «дыхание», łiłaŋ «живой», łał -«дышать»); * šuŋę «душа; призрак, тень» (совр. х. łŏŋχ «призрак»); * numэ > совр. х. nŭm «верхний, высокий, небесный», мс. num , numi «то же», numi tårəm «верхний бог отец», сам. н. num «небо», «бог» [11, с. 424)].
Особую роль играет соматическая лексика хантыйского языка в составе лексики природы (фитонимы, зоонимы, реалии неживой природы) и соматическая лексика в составе слов или словосочетаний, обозначающих предметы материальной культуры. Отдельно можно рассматривать устойчивые сочетания и фразеологические единицы, в состав которых входят слова, называющие части тела или внутренние органы человека и живых существ: млекопитающих, птиц, рыб, насе- комых. В большей части таких сочетаний и фразеологизмов стержневым компонентом является глагол. Например: sămł śi juvarłałi «он голоден» (букв.: сердце-его свернется), tăm joχ vŭrijn «находясь в своем уме» (букв.: эти люди в крови = их), sεm-tŏr ninłštati «просить сострадания» (букв.: глаза тянуть). Отметим и высокую частотность употребления фразеологизмов с участием сомонимов.
Во-вторых, лексические значения могут быть мотивированными и немотивированными. Мотивированными являются те значения, которые отражают внутреннюю связь между предметом и названием: имя дается предмету или явлению на основании характерного признака. Например, слово kŭrnat «изножье (постели)» обозначает ту часть постели, которая находится «в ногах»: kŭrn «ногами» > kŭr «нога». Немотивированными называются значения, которые в современном языке не отражают внутренней связи названия и предмета, например: usum «изголовье».
В-третьих, языковые значения могут быть прямыми и переносными. Таким образом, очень много слов (а глаголов – большинство) оказываются многозначными, а в среде многозначных слов «не первым» значением чаще всего является именно переносное.
Глагол в хантыйском языке представляет собой одну из наиболее интересных и сложных категорий как в грамматическом, так и в лексико-семантическом плане, в том числе с точки зрения синонимических отношений.
Специфику хантыйского языка можно видеть в особенностях отражения картины мира, а также в высоком уровне «субъективизма». Другими словами, хантыйский язык дает возможность говорящему на нем всегда выражать свой исключительный, субъективный взгляд на мир. Лексикон хантыйского языка устроен таким образом, что он позволяет носителю этого языка выражать субъективный взгляд говорящего непосредственно, без учета предварительной классификации, уже произведенной в языке, потому, что такой классификации просто нет [4]. В хантыйском языке нет, например, деления имен по родам, нет регламентации в выборе вида: глагола, а есть свобода для субъективного восприятия мира и проявления этой субъективности в речи. В подтверждение этому – несколько выражений, записанных нами у носителей казымского диалекта: sεmt śi «это очевидно»; ăł vŏłtał suχn «на трезвую голову; в твердой памяти (он)»; kăšłi mułti ńuχi χŏn «ведь не без боли тело (мясо)»; numsεm vana jis «стало тяжело на сердце (у меня)»; imuj pŭnaŋ ut vεrł «и что он такое делает»; muj ńuχeł păti «за что, за какие заслуги (его)»; šăšn pavatti «угробить (кого-либо)», kŏńar josaχ «бедолага» (жалостливо); łuχεmum ut «умерший, покойный» (жалостливо); piraś pŏχtεm ut «такой-сякой старый» (пренебрежительно или с осуждением); šŏkaśti ńavrεm «сирота» (жалостливо); śi lota pavatti «поставить в затруднительное положение» (букв.: в углубление сделать) [14, с. 33–35].
Эти и подобные устойчивые сочетания играют очень важную роль в языке, помогая выразить множество модальных и оценочных значений. Многие названия выделений и болезней живого организма, так же как первичные названия органов и частей тела, прослеживаются еще со времен существования уральского праязыка (например, слова, называющие голову, глаз, рот, язык, печень). Но эти слова в современных финно-угорских языках нельзя напрямую связать с той или иной модальностью, можно только констатировать возможность их участия в словосочетаниях (предложениях), выражающих желание, намерение и другие модальные значения. Это еще не оптатив (или дезидератив, или поссибилитив, или какое-то другое наклонение), а оптативность (необходимость, возможность), когда желание (намерение, способность, возможность, невозможность) приписывается субъекту ситуации (в частном случае этот субъект совпадает с говорящим), а выражение модального значения осуществляется не морфологической формой, а синтаксическими средствами (с помощью так называемых синтаксических наклонений).
В словосочетаниях и фразеологических оборотах, содержащих названия частей тела и внутренних органов человека, могут даже выражаться модальные значения (желание, намерение и т. д.), иногда иносказательно, напр.: рус. в горле пересохло, т. е. хочется пить; руки чешутся, т. е. есть желание кого-либо побить, фин. оttaa pääkseen «задаться целью» (pää «голова»), мокш. кялец юмась «язык отнялся, т. е. нет возможности гово- рить» (кяль «язык»), хант. săm voχła «есть хочется; букв.: сердце куда-то просят» (săm «сердце»). (О других подобных идиомах в хантыйском языке см. в [3].)
Устойчивые сочетания, например, очень точно выражают отношение к болезни и смерти (здесь важны и наличие слов, называющих болезни, и сложные семантические отношения внутри ЛСГ глаголов смерти). В частности, в хантыйском языке такого рода лексика специфична в том смысле, что в ней одинаково отражаются незнание о многих болезнях, легковесное отношение к любым недугам и самое разное восприятие смерти.
По-разному можно проводить анализ семной структуры лексем, обозначающих части тела и внутренние органы. Как известно, семантическая структура, состоящая из сем, лежит в основе лексического значения слова. Семой (от греч. sema «знак») называют минимальную единицу плана содержания. Так, у существительного sem «глаз» четыре семы: 1) voj / χănneχŏ pŭlat / śŭŋkat – органы, части тела, выделения и болезни живого организма, 2) voj / χănneχŏ venš / jăpal śŭŋkat – органы на лице человека (морде зверя), 3) χănneχŏ sem-tŏrat – органы восприятия и чувств человека, 4) χănneχŏ sem – человеческий глаз. Семы у слов могут совпадать, а могут и противопоставляться. Например, у слов aśi «отец» и aŋki «мать» одинаковыми являются все семы, кроме первой – «мужской пол»: у существительного aśi противостоит семе «женский род»: у существительного aŋki.
Особого внимания заслуживает вопрос об образности устойчивых словосочетаний (фразеологизмов), об их синонимии с цельными словами и свободно образующимися словосочетаниями. Изучение синонимов и синонимии (в хантыйском языке), построение теории лексических синонимов (хантыйского языка) должно опираться на рассмотрение многочисленных фактов, огромного множества слов, взятых в многообразии их лексических значений, их (т. е. синонимов) связей не только между собой, но и с другими сторонами, с другими лексическими микросистемами (например, антонимами), а также в связи с другими сторонами языка в его целостности. Для хантыйского языка наиболее важным представляется связь лексики со словообразованием, так как в результате присоединения определенных суффиксов к корню (непосредственно после корня) получаются новые слова. Наш подход к такого рода словам основан на предположении, что словообразовательный суффикс часто вносит не только чисто лексико-грамматическое значение, но и коннотативное (оценочное, экспрессивное и т. п.). Это же правило относится к словам, образованным путем словосложения: šakpak «аккуратный», pitasaŋ «надоедливый», turasaŋ «надоедливый»; в нашем случае примерами могут служить слова и сочетания: vŭrajaŋ «настойчивый» (вўр «кровь»), χor suχa jiti «вознегодовать; вспылить» (suχ «кожа»), kŭlumti «стать вздорным» (о характере человека) (kŭlma «толстая, жирная часть»), łăŋi-păŋi «пронырливый» (paŋ «большой палец»), (ма) joša-kŭra «(я) собственноручно» ( još «рука», kŭr «нога»), oχta-pulχa «без пользы; бестолково» (oχat «ненужное в организме», pulaχ «мусор»).
Теперь об именных словах в составе устойчивых сочетаний. Выше мы писали о разделении их на три группы. Подробнее охарактеризуем каждую из них.
-
1. Имена, обозначающие черты характера, душевные свойства человека. К ним относятся слова типа łił «душа, дух», vor «характер», numas «мысль, мечта», vev «твердость, сила духа».
-
2. Имена, обозначающие части тела человека. Данную группу составляют имена vεnš «лицо», sεm «глаз», još «рука», uχ «голова», pεŋk «зуб» и др.
-
3. Имена, обозначающие внутренние органы человека: χun «внутренность, нутро, живот», turaχ «легкие», săm «сердце», muχal «печень» и др.
Примеры устойчивых сочетаний: numas vana jis «стало тяжело на душе» (букв.: мысль короткой стала), jasaŋa-keła vŏjtantti «быть обиженным кем-то» (букв.: на обидные слова напороться), mevar ałumti «претерпевать обиду от кого-либо» (букв.: обиду поднимать).
Сочетания типа łiłεm mănas «у меня душа ушла в пятки» (< łił «душа, дух» + măn- «идти») обозначает сильную степень страха: pŭpi šivałasum – łiłεm isa mănas «медведя увидел – душа у меня ушла в пятки».
Примеры устойчивых сочетаний: kŭtśum suχn «в нетрезвом состоянии» (букв.: в пьяной коже), sεm lăp χătśuman «не глядя, без опаски» (букв.: глаза приударив), ńałum pătija omsałtti «обмануть» (букв.: на конец языка посадить).
Примеры устойчивых сочетаний: sămał łăŋχati χujat «легкий на подъем» (букв.: тот, у кого сердце хочет), sămłi-muχałłi pavatti «напугать до смерти» (букв.: без сердца, без печени оставить), χun sorsa «проголодался» (букв.: живот высох).
Итак, нами рассмотрены устойчивые сочетания, образованные от имен и глаголов. Имена в их составе обозначают внутренние органы и части тела человека, а также понятия, вызываемые по ассоциации с ними. Круг глаголов, сочетающихся с соматизмами в хантыйском языке, также достаточно разнообразен. В целом можно сделать вывод о том, что у хантов некоторые внутренние органы ассоциируются с определенными эмоциональными переживаниями, что в языке отражается наличием соответствующих устойчивых сочетаний.
Анализируя функционирование подобных устойчивых сочетаний в тексте (или в речи), убеждаемся, что все они вовлечены в процесс речевого воздействия, активно используются для повышения изобразительности речи и, соответственно, подвергаются конвергенции и контаминации [12, с. 156].
Подтверждается гипотеза: общее значение рассматриваемых сочетаний часто не складывается из простой суммы значений компонентов. Именно детерминированность характера устойчивых сочетаний конкретным языком позволяет рассматривать их в рамках когнитивной лингвистики. В речи экспрессивность высказываний с устойчивыми сочетаниями поддерживается междометиями, что позволяет увязать данный вопрос с проблематикой языковой прагматики. Это тема отдельного углубленного исследования.
Необходимо продолжать работу по изучению отраслевой (тематической) лексики хантыйского языка. В частности, изучение со-монимии хантыйского языка может развить этимологические исследования, внесет новое в лексикологию финно-угорских языков, в сопоставительные исследования по уралоалтайским языкам.
Список литературы Устойчивые сочетания на базе соматической лексики как предмет когнитивной лингвистики
- Бенвенист, Э. Общая лингвистика [Текст]/Э.Бенвенист; под ред. Ю.С.Степанова. -М.: Прогресс, 1974. -380 с.
- Есперсен О. Философия грамматики [Текст]/О.Есперсен. -М., 1958.
- Каксин А.Д. О некоторых лексических средствах выражения оптативности в хантыйском языке [Текст]/А.Д.Каксин. -Linguistica Uralica. XXXIX. 2003. № 2. -С.94-99.
- Каксин А.Д. Лексикон младописьменного языка и его представление в словарях (на примере хантыйского языка) [Текст]/А.Д.Каксин//Актуальные проблемы филологии и филологического образования: Труды Всероссийской научной конференции (27 марта 2006 г., г.Стерлитамак). Уфа, 2006. С.38-45.
- Каксин А.Д. Модальные слова как основное лексическое средство выражения модальности в хантыйском языке [Текст]/А.Д.Каксин. -Вестник Башкирского университета. 2007. Том 12. № 4. -С.97-100.
- Каксин А.Д., Чертыкова М.Д. Роль национальной интеллигенции в деле развития письменности языков малочисленных народов [Текст]/А.Д.Каксин, М.Д.Чертыкова//Интеллигенция и проблемы национальных отношений: Материалы VII Международной научной конференции. 16-18 сентября 2008 г. Том II. -М.-Улан-Удэ, 2008. -С.189-193.
- Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов [Текст]/О.А.Корнилов. -2-е изд., испр. и доп. -М.: ЧеРо, 2003. -349 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь [Текст]/Главный редактор В.Н.Ярцева. -М.: Советская энциклопедия, 1990. -685 с.
- Логический анализ языка: Избранное. 1988-1995 [Текст]/Редколлегия: Н.Д.Арутюнова, Н.Ф.Спиридонова. -М.: Индрик, 2003. -696 с.
- Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. Учебное пособие [Текст]/Н.Б.Мечковская. -М.: Флинта; Наука, 2001. -312 с.
- Основы финно-угорского языкознания: Вопросы происхождения и развития языков [Текст]. -М.: Наука, 1974. -464 с.
- Пекарская И.В. О соотношении понятий "конвергенция", "контаминация", "маргинализация" элокутивных орнаментальных средств [Текст] // Актуальные проблемы изучения языка и литературы: теория и практика коммуникативного воздействия // Материалы V Международной научно-практической конференции, 27-29 октября 2010 года, г.Абакан. - Абакан, 2010. - С.156-159.
- Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. Учебное пособие [Текст]/В.А.Плунгян. -М.: Эдиториал УРСС, 2000. -384 с.
- Полевые материалы автора (собраны в 1989-2008 гг. в с.Казым Белоярского района Тюменской области) [Рукопись]