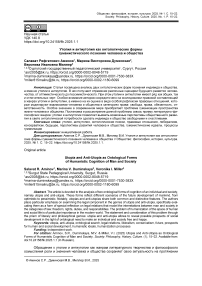Утопия и антиутопия как онтологические формы гуманистического познания человека и общества
Автор: Аминов С.Р., Думинская М.В., Миллер В.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу двух онтологических форм познания индивида и общества, а именно утопии и антиутопии. В них получают отражение различные сценарии будущего развития человечества, от оптимистического до пессимистического. При этом утопии и антиутопии имеют ряд как общих, так и отличительных черт. Особое внимание авторов сосредоточено на исследовании правовой составляющей в жанрах утопии и антиутопии, а именно на их оценке в виде особой рефлексии правовых отношений, которые моделируют взаимосвязи человека и общества в категориях права: свобода, права, обязанность, ответственность. Особое значение в современном мире приобретает проблема гуманизации пространства жизни человека и общества. Постановка и рассмотрение данной проблемы сквозь призму литературно-философских жанров: утопии и антиутопии позволяет выявить возможные перспективы общественного развития в свете онтологической потребности сделать индивида и общество свободными и счастливыми.
Утопия, антиутопия, онтологические поиски, правовые отношения, либерализм, консерватизм, будущее, перспективы развития человека и общества, гуманистические идеалы, процессы гуманизации
Короткий адрес: https://sciup.org/149147685
IDR: 149147685 | УДК: 140.8 | DOI: 10.24158/fik.2025.1.1
Текст научной статьи Утопия и антиутопия как онтологические формы гуманистического познания человека и общества
1,2,3Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия ,
, ,
1,2,3Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia , , ,
всей истории человеческого сообщества. В настоящее время социокультурные процессы выводят данную проблематику на особые глубинные онтологические уровни. «Сегодня особенно необходимо глубокое осознание сущности человека и социума, наиболее общих законов их развития, без чего невозможно понимание глубинных тенденций эволюции» (Афанасенко, Чернова, 2024: 55).
Цель данной публикации – обращение к утопии и антиутопии как формам онтологического поиска методов, форм, способов построения идеального общества, в котором гуманистические ценности получат (или не получат) практическое воплощение. При этом содержательные смыслы утопии проникнуты верой в возможность реализации гуманистического мира; в свою очередь, антиутопия построена как форма критического переосмысления всех возможных гуманистических теорий и практик с целью их опровержения.
Своеобразный переход утопии в антиутопию рассматривается и современными авторами. «Утопическое сознание воплощается в форме антиутопии, что приводит к амбивалентности смысла, к появлению внутренних антиномий» (Заваркина, 2021: 326). Переход утопии в антиутопию весьма подвижен, что свидетельствует о возможности сближения данных позиций в отношении перспектив развития человеческого сообщества. В данной публикации предлагается рассмотреть содержательные аспекты обозначенных феноменов; определить аспекты как общностей, так и особенностей; рассмотреть перспективы гуманистического развития человека и общества. Объектами исследования выступают утопия и антиутопия как онтологические формы гуманистического познания человека и общества. Были использованы методы – сравнительно-исторический (обращенность к процессу становления жанров утопии и антиутопии, к истории гуманистической традиции), герменевтики (работа с литературными и философскими текстами).
Время появления терминов «утопия» и «антиутопия» в научном обиходе существенно различается. Если обращаться к этимологии первого термина, то его первичное употребление обнаруживается в эпоху Возрождения в творчестве Т. Мора. Однако сама потребность общества формировать идеальные модели построения социального взаимодействия существовала и в более ранние периоды, например, в эпоху античности, проявляясь в творчестве Платона и Аристотеля. Антиутопия как самостоятельный жанр формируется в XIX в., что обусловливается политическими, экономическими и социально-культурными факторами в своей совокупности, которые минимизировали веру и уверенность человека, общества, всего человечества реализовать на практике идеалы и установки гуманизма.
«Город солнца, град божий, царство радости, государство благоденствия, земля обетованная – среди мифов, свойственных человеческому сознанию, миф утопии и антиутопии следует назвать одним из самых древних и фундаментальных» (Черепанова, 1999: 96). Роль и значение литературно-философских жанров утопии и антиутопии сохраняются в XX и XXI вв., о чем свидетельствуют романы Е. Замятина «Мы»1 и В. Пелевина «Трансгуманизм»2, а также произведения других авторов. Эта обращенность к утопиям и антиутопиям есть определенный символ онтологического поиска человеком и обществом тех моделей сосуществования и взаимодействия, которые можно рассматривать как наиболее соответствующие гуманистическим идеалам и ценностям. Данные факты свидетельствуют о том, что человечество в прошлом и в будущем будет обращаться к данным жанрам с целью нахождения ответов на смысложизненные вопросы о том, что есть человек и каково его место в мире других людей.
В современной философии сложилось два подхода к рассматриваемым феноменам: в рамках первого подчеркивается противоположность литературно-философских жанров утопии и антиутопии; в рамках второго – рассматривается их симбиоз. Дифференциация содержательных аспектов утопии и антиутопии проявляется в выделении различных компонентов этих жанров. Так, в утопии принято выделять следующие категории: идеальное, возвышенное, нереалистичное. Если обратиться к художественному описанию такого рода проектов, то все они подчеркивают счастливое и беззаботное существование индивида, равенство людей в правах и обязанностях, общественное единение и солидарность. Этимология же термина «антиутопия», дословно означающего «против», подчеркивает критический взгляд на ситуацию настоящего и будущего, в котором мир предстает бесчеловечным и безрадостным, приближенным к полной катастрофе. В этом смысле утопия и антиутопия предстают полными противоположностями, характеризующими два варианта развития человечества: крайне оптимистический и крайне пессимистический. Они имеют право на существование, однако не могут быть объективными, так как отражают только одну сторону видения мира, человека и общества.
Общими для утопии и антиутопии выступают следующие структурные единицы: субъект как носитель определенных утопических или антиутопических идей или действия. Рассмотрим подробнее осуществляющийся взаимопереход понятий. Утопия и антиутопия обращены к индивиду, кото- рый словно примеряет на себя разные роли: то он видит себя активным транслятором утопических или антиутопических идей, то выясняется, что его представления о себе и мире иллюзорны, и он оказывается марионеткой в сложной чужой игре. Таковым был создан финал литературного романа В. Пелевина «Трансгуманизм». Герои произведения только на первый взгляд были свободны и независимы, а на самом деле стали проекцией работы сложного суперкомпьютера.
Второй подход также имеет своих сторонников среди отечественных специалистов. Об этом писал Т.А. Каракан, согласно которому «возможность утопии перерождаться в свою противоположность была заложена внутри самого жанра, являясь элементом поэтики и одной из тенденций возможного развития» (Каракан, 1992: 158). В этом смысле устанавливается способность литературного сочинения являться своеобразным отражением существующих социальных проблем, осуществлять анализ и рассматривать их с различных сторон. И если жанр утопии не смог привлечь внимание общественности и сформировать мировосприятие всех людей в стремлении сделать жизнь человека и общества соответствующей идеалам гуманизма, то тогда авторы прибегают к иному средству – читателям представляются картины страшного развития будущего всего человечества. В этом значении утопия и антиутопия решают одну общую задачу – стремятся заострить внимание как индивида, так и широкой общественности на необходимости разрешать складывающиеся социальные проблемы, видеть негативные последствия ряда факторов общественного развития.
Другой общностью утопии и антиутопии является их обращенность в будущее как к самому значимому временному плану, тем самым словно отрицается прошлое и настоящее. Авторы утопий и антиутопий подчеркивают наличие значимой степени скептицизма в том, чтобы преобразовать жизнь человека и общества «здесь и сейчас». Это свидетельствует о том, что ни мирные реформы, ни революционные преобразования не могут существенно изменить сложившейся картины мира. При этом писатели акцентируют собственную уверенность в возможности совершенствовать отношения человека и общества в соответствии с гуманистическими идеалами, создавая все условия для благополучия человека и его общественного процветания. Авторы антиутопий транслируют идею об ухудшении общественного развития по самым пессимистическим сценариям, полагая, что человечество в прошлом пережило так называемый «золотой век», а далее его история утрачивает возможность возвращения к нему. Таким образом, утопия и антиутопия в обобщенном виде есть два сценария развития общества и человека. Такие идеи в прошлом поддерживали Аврелий Августин, Гегель, Конфуций и многие другие мыслители.
Если признать тот факт, что счастье и благополучие возможны для всех и во все времена, то остаются вопросы о том, почему все эти концепты понимаются людьми достаточно противоречиво, а сами пути, способы их осуществления истолковываются неоднозначно. Например, О. Хаксли в романе-антиутопии «О дивный новый мир» упоминает о необходимости постановки следующего вопроса перед каждым индивидом: «Как данное соображение или действие помогут (или помешают) мне и наибольшему возможному числу других личностей в достижении Конечной Цели человечества?”»1. И здесь автор возвращается к проблематике, заявленной в социальной философии и философии права. Что важнее: счастье индивида, отраженное в установках либерального права, или фактическое неравенство людей и ценность общества, представленные в консервативно-правовой идеологии?
Содержание утопий и антиутопий построены по принципу долженствования, но не счастье человека становится в этом случае отправной точкой, а выработка инструментов, следящих за порядком – вот чему уделено все внимание. Порядок, который удерживается жесточайшим контролем, – главная ценность утопии и антиутопии, это позволяет утверждать, что тоталитарные политические режимы выстраиваются по их образу и подобию. Авторы утопий и антиутопий ставят своей целью построение определенных моделей общества в своих произведениях, в которых особое внимание отводят анализу духовных и материальных составляющих человеческого и общественного бытия: науке, искусству, системе воспитания. Все элементы духовной культуры подчинены важнейшей задаче – формированию мировоззрения индивида, одной из важнейших ценностей которого должно стать чувство единства и единения с другими.
Идея главенства естественного права как важнейшей доктрины в философии права подчеркивает ценность неотъемлемых прав человека, которые ему принадлежат по праву рождения. Противопоставление прав естественных и искусственных, созданных людьми, приводит к конфликту индивида и общества, когда их интересы не совпадают. В свете данной проблемы содержание утопий подчинено необходимости признать верховенство природы, авторы произведений позиционируют необходимость привести законодательство в соответствии с требованиями природы. Все явления и процессы в естественной природе обусловлены некой высшей необходимостью и протекают в рамках соблюдения правила подчиненности слабого более сильному и выносливому. Утопия и антиутопия опираются в своих моделях включенности индивида в социальную общность на этическое понимание долга и ответственности, а также на юридическое соответствие складывающимся общественным законам. Не ценность индивида выходит на первый план, а целостность общества, которое регламентируется законодательными нормами. «Таким образом, утопическое мировоззрение оказывается вполне юридическим по своему содержанию» (Тюгашев, 2023: 16).
Мы полагаем, что утопия и антиутопия как литературно-философские жанры рассуждения о сущем и должном, о реальном и идеальном есть поиск онтологических ответов на «вызовы современности», в которых заявлены значимые социальные вопросы о бытии человека и общества, о направленности развития всего человечества. Представляется значимым рассматривать утопии и антиутопии как определенные социальные ориентиры, отражающие ценность бинарных оппозиций: «природа - законы», «естественное - искусственное», «равенство - неравенство» (Тюгашев, 2023: 18). Например, в эту концепцию укладывается идеализация природного как более совершенного по сравнению с феноменами, которые являются продуктом созидания человека или общества. В этом аспекте утопии и антиутопии есть художественно развернутая оценка Ж.-Ж. Руссо, представленная в его сочинении «Способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов?»1. Значение «естественного» встает в один ряд с понятием «равенство» как необходимого условия в процессе формирования справедливого общества, в котором даже одежды людей должны быть одинаковыми. Начиная с внешнего обличия и завершая общими идеями, ценностями, моделями поведения, утопия совершает свое перерождение в антиутопию, где равенство становится синонимом упадка и разложения. В утопических моделях внешняя одинаковость не есть синоним социального равенства, равноправия. Одни и те же возможности и права разными людьми могут быть использованы по-своему, существенно ограничивая свободу выбора и независимость индивида, а также приучая его к избранию модели поведения, характеризующейся низкой социальной ответственностью. Любое внешнее ограничение прав и свобод вызывает как реакцию смирения, так и бурное неповиновение. «Генезис данных маркеров позволяет идентифицировать утопию как внешнюю рефлексию правовых отношений, моделирующую мир в категориях права. На этом основании утопия может быть интерпретирована как «юридическое мировоззрение» (Тюгашев, 2023: 18).
Формулирование множества аспектов феноменов утопии и антиутопии привело к необходимости обосновать их типологию. Так, специалисты выделяют среди этих жанров социальные, технологические, трансгуманистические, классические, неклассические и постнеклассические. Антиутопия бывает социальной, социально-фантастической, научно-фантастической, историкофантастической, религиозно-философской, технократической. Подобные классификации утопии и антиутопии весьма условны, они подчеркивают доминирование тех аспектов, которые рассматриваются авторами в конкретных произведениях. Некоторые из них сосредотачивают свое внимание на элементах фантастики или фантасмагории, другие в основу повествования вплетают социальные проблемы, а также возможные сценарии их решения.
В своей работе Л.А. Морщихина обобщает публикации исследователей на тему утопии в следующих смысловых значениях: образ совершенного общества; способ представления идеального развития цивилизации; утопия как современная реальность; как культурологический срез развития человечества; формулирование тождественности понятий «утопическое - социальное»; противопоставление утопии и антиутопии как идеала и объективной реальности; единство утопии и утопизма и др. (Морщихина, 2017: 46-48). Такое количество определений, а также соотнесение утопии и антиутопии как литературно-философских жанров подчеркивают актуальность заявленной научной проблемы, а также указывают на то, что человечество будет и в дальнейшем обращаться к данным формам как особому онтологическому познанию самого себя, мира и общества.
Проекты построения идеального человека и общества приводят современное человечество к необходимости осмыслить сложившиеся гуманистические теории, которые предложили различные модели организации аспектов бытия человека и общества. Утопия и антиутопия предстают в этом контексте онтологическими формами гуманистического познания мира.
Гуманизм как мировоззренческая установка имеет давнюю историю и длительное время формирующуюся традицию. На смену классическим формам его понимания приходят современные: неогуманизма, секулярного или нового гуманизма, трансгуманизма. «Процесс “клонирования” термина “гуманизм” в большом числе практически тождественных понятий имеет право на существование, но при этом способствует, вольно или невольно, тому, что размываются границы гуманистического, отвлекая от его сущностных черт. Значительное число такого рода дефиниций может свидетельствовать об определенном кризисном состоянии гуманизма и поиске новых векторов его развития» (Думинская, Миллер, 2023: 31).
Л.С. Коробейникова почти десятилетие назад писала о том, что современное общество входит в новую эру гуманизма, подчеркивая многообразие его видов и форм: экологический, академический, демократический. «Поиски нового гуманизма, при всей пестроте разрабатываемых альтернатив, ведутся по двум вполне традиционным направлениям: сциентистскому и антисци-ентистскому, которые отличаются друг от друга набором средств и методов исследования» (Коробейникова, 2014: 109). Вера в науку и знания как инструмент построения идеального общества есть сциентизм, критика научных достижений как материала усложняющего бытие человека и общества – антисциентизм. «Утопия как форма социальной фантазии в своей основе опирается на воображение, а не на научно-теоретические методы познания действительности. Отсюда можно определить следующие особенности утопий: отрыв от реальности, переход от реального к ирреальному, построение идеальной действительности» (Долгина, 2012: 33). Например, «герои Платонова мечтают о том времени, когда техника, природа и человек будут пребывать в гармоничных отношениях, помогая друг другу в преодолении всеобщей энтропии» (Заваркина, 2021: 334). Идею о значимости технологий подчеркивают сторонники трансгуманизма, формирующие идеал человека по типу усовершенствованного механизма.
Современные исследователи высказывают обеспокоенность тем, что новые формы гуманизма приводят к усилению антигуманистических процессов. Это обусловлено тем, что они исходят из тезиса о человеческом несовершенстве и острой необходимости изменить родовую природу индивида. Такое преображение человека предполагают осуществить с помощью современных технологий, преобразив его силу и мощь. Но самое главное – новые формы гуманизма стараются преодолеть человеческое несовершенство, физиологическую немощь и смертность. «Понимание смерти как проблемы можно считать элементом, качественно отличающим человека от всего живого» (Ясперс, 1997: 32).
Человек признается субъектом, нуждающимся в том, чтобы соответствовать меняющимся социально-культурным реалиям. И если мир становится более технически совершенным, то и человек может рассчитывать на реализацию самой значительной идеи – стать совершеннее внешне и внутренне. «Постчеловек» – это уже не социокультурный феномен (как полагали гуманисты прежних времен), а некая техническая фабрикация (изделие). Предлагаются разные варианты реализации неоевгенических проектов – от создания почти бессмертных антропоидов и киборгов до неорганических обладателей искусственного интеллекта. Посередине находим концепцию генетического «выведения» сверхлюдей, обладающих сверхспособностями и сверхвозможностями (Мись-кевич, Малыхина, 2020: 118). Данные благие намерения вызывают определенную настороженность, касающуюся перспектив бессмертия всех людей или только части наиболее достойных? Есть опасения, что бессмертие станет определенной «разменной монетой», когда избранные будут принимать решение о том, достоин или недостоин человек лучшей жизни. Образы идеального человеческого и общественного бытия могут оказаться реализацией рая на земле, а благие намерения – дорогой в ад. «Надо разоблачать неявную суть трансгуманизма и в меру сил бороться с ним. Дело ведь не в том, что возможное торжество трансгуманизма будет сопряжено с великим “расчеловечиванием” человека, а в том, что его победа будет знаменовать собой учреждение тоталитарного режима и жесточайшей эксплуатации невиданного масштаба» (Пилецкий, 2021: 178).
Обратимся к сочинениям Т. Мора и В. Пелевина, в которых заданы гуманистические векторы, позволяющие проследить динамику утопических и антиутопических традиций, а также исследовать перспективы гуманизации человека и общества в современности.
Первый автор выступил новатором жанра, раскрывая на страницах своего сочинения представления о социальной справедливости и равенстве. Наиболее важным условием благополучного существования общества автор «Утопии»1 полагал уничтожение частной собственности. Это должно стать условием для того, чтобы жизнь человека и общества были справедливыми.
Рассуждая о том, что все люди различны по внешнему облику и по своим привычкам, Т. Мор утверждал, что существует нечто общее, а именно стремление быть добродетельным, высоконравственным. Такие стремления должны быть воспитаны в человеке государством, поэтому автор останавливается подробно на описании быта населения острова Утопия. Строгая регламентация жизни человека и общества должна гарантировать порядок общего существования. Это, например, касалось описания добрачных отношений между мужчиной и женщиной. Автор столь подробно представляет читателю нормы и правила острова Утопии, что создается отчетливое впечатление, что это определенная игра, имеющая четкие правила для индивидов, в нее включенных. Так, общественные законы необходимы для справедливого мироустройства, а любые формы инакомыслия недопустимы. «Мыслящего иначе они не признают даже человеком»1. Данная модель взаимодействия человека и общества может восприниматься нами как некий тоталитарный режим, когда человек «встроен» в общественную систему неизменным элементом.
Напомним, что гуманизм этимологически означает человеколюбие. «Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравнивать со всеми благами мира»2. Автор сравнивает индивида с благами, продолжая традицию софистов, полагавших человека мерой всего. Такое понимание гуманизма можно считать традиционным для эпохи Возрождения, в то время как Пико делла Мирандола провозглашал человека центром мироздания, возвеличивая человеческий ра-зум3. Антропоцентризм становится отправной точкой многочисленных рассуждений о ценности и значимости человека. Однако выход гуманистических установок на уровень практики стал проблемой сложно разрешимой. Все появляющиеся утопические проекты не смогли ответить на вопрос о том, как сделать человека счастливым, а общество – процветающим.
Утопии и антиутопии XX и XXI вв. продолжили поиск форм и средств гуманизации мира и общества. Стали появляться проекты, которые предлагают очеловечить не реальную, а виртуальную реальность. Действительно, такое бытие позволяет выстраивать существование по «индивидуальному заказу». Подобный формат гуманизации, на первый взгляд, кажется более реалистичным, если мир подстраивается под потребности отдельного индивида, его сформированную мировоззренческую картину. Такая модель представлена в сочинении В. Пелевина4. Однако «герои в сочинениях В. Пелевина одновременно вызывают чувство сопереживания и жалости, так как демонстрируют полную бессмысленность своего существования в отсутствие целей и жизненных ориентиров. Вся их жизнь сведена к реализации природных инстинктов» (Миллер, 2023: 90). Такие проекты гуманизированного и гармонизированного будущего также не найдут большого числа своих почитателей. Существование в плену иллюзий, управление некоей матрицей, задающей систему мировоззренческих координат, чтобы индивид признавал себя счастливым и живущим в благополучном мире, – этот выбор станет идеальным далеко не для каждого. Это возвращает нас к проблеме возможности осуществить идеалы гуманизма в социокультурной практике, когда счастье индивида и общественное благополучие являются ее отличительными признаками.
Какими будут человек и общество в утопиях и антиутопиях? Будет ли человечество гуманным в настоящее время или совершенным станет человек далекого будущего? Эти вопросы должны быть поставлены, несмотря на их сложное и противоречивое содержание. Если оценивать реалии современного мира, то полагаем, что отказ от гуманистических замыслов реализации столь же будет неверен, как и стремление осуществить идеалы гуманизма «здесь и сейчас, а также любой ценой». Также неправильным будет отождествлять гуманистические образы с моделями утопии и антиутопии, так как гуманизм должен быть обращен к настоящему, к решению насущных проблем человечества. Рассуждения о том, что станет более значимым – общественное благо или благополучие отдельного индивида – для гуманистической теории и практики, должны иметь разнонаправленные действия: с одной стороны, это повышение уровня личной ответственности человека перед обществом, с другой – забота социума о том, чтобы каждый индивид жил в мире и благополучии. Озвученные сценарии утопии и антиутопии в прошлом и настоящем являются значимыми ориентирами для общественного развития и формирования мировоззренческой картины индивида.
Список литературы Утопия и антиутопия как онтологические формы гуманистического познания человека и общества
- Афанасенко Я.А., Чернова Т.Г. Расширение прав и свобод человека или его расчеловечивание? // Общество: философия, история, культура. 2024. № 5 (121). С. 54-61. DOI: 10.24158/fik.2024.5.7 EDN: KIEPZI
- Долгина Е.С. Проблема дефиниций "утопия" и "научная фантастика" в историческом дискурсе // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6 (37). С. 32-33. EDN: PLUUCV
- Думинская М.В., Миллер В.И. Секулярный гуманизм и трансгуманизм есть утопии современного общества? // Общество: философия, история, культура. 2023. № 4 (108). С. 30-35. DOI: 10.24158/fik.2023.4.3 EDN: NODBWH
- Заваркина М.В. Утопия как антиутопия (повесть Андрея Платонова "Хлеб и чтение") // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19, № 2. С. 326-352. DOI: 10.15393/j9.art.2021.9402 EDN: KTRHLE
- Каракан Т.А. О жанровой природе утопии и антиутопии // Проблемы исторической поэтики. 1992. № 2. С. 157-160. EDN: SFOKHP