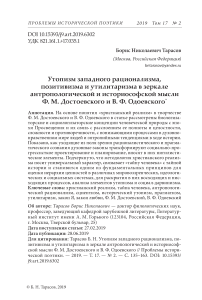Утопизм западного рационализма, позитивизма и утилитаризма в зеркале антропологической и историософской мысли Ф. М. Достоевского и В. Ф. Одоевского
Автор: Тарасов Борис Николаевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.17, 2019 года.
Бесплатный доступ
На основе понятия «христианский реализм» в творчестве Ф. М. Достоевского и В. Ф. Одоевского в статье рассмотрены биологизаторские и социологизаторские концепции человеческой природы с эпохи Просвещения и их связь с расслоением ее полноты и целостности, сложности и противоречивости, с понижающими процессами в духовно-нравственном мире людей и энтропийными тенденциями в ходе истории. Показано, как уходящие из поля зрения рационалистического и прагматического сознания духовные законы трансформируют социально-прогрессисткое проектирование и планирование, вносят в них нигилистические элементы. Подчеркнуто, что методология христианского реализма носит универсальный характер, связывает «тайну человека» с тайной истории и становится одним из фундаментальных принципов для оценки иерархии ценностей в различных мировоззренческих, идеологических и социальных системах, для раскрытия в них восходящих и нисходящих процессов, анализа элементов утопизма и социал-дарвинизма.
Христианский реализм, тайна человека, антропологический рационализм, сциентизм, исторический утопизм, прагматизм, утилитаризм, закон я, закон любви, ф. м. достоевский, в. ф. одоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/147226195
IDR: 147226195 | УДК: 821.161.1+17.035.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2019.6302
Текст научной статьи Утопизм западного рационализма, позитивизма и утилитаризма в зеркале антропологической и историософской мысли Ф. М. Достоевского и В. Ф. Одоевского
В ряду новаторских научных заслуг в многосторонней филологической деятельности В. Н. Захарова принципиально важное теоретическое и практическое значение приобретает разработка им понятия «христианский реализм»1 применительно к отечественной классике в целом и к творчеству Ф. М. Достоевского в особенности, что позволяет не только раскрывать и углублять наши сложившиеся представления о реализме, рассматриваемом обычно в плоскости социально-исторического детерминизма, но и приближает к более адекватному пониманию уникального своеобразия русского художественного, философского и исторического мышления. Входящий в «подкладку» такого реализма христианский идеал, евангельские истины и традиции давали возможность наиболее глубоким отечественным писателям, мыслителям и историкам, говоря словами Достоевского, не «ограничиваться “кончиком своего носа”» и не довольствоваться околонатуралистическими представлениями, изображать «настоящую минуту» в знакомых «не по наглядке» и узнаваемой многими актуально-поверхностных процессов жизни личности и общества в свете модных идей или прогрессистских теорий, а устремляли их раскрывать вечное во времени, бытие в быте, соединение в настоящем прошлого и будущего через «тайну человека» и творимой им истории, что и предопределяет нередко пророческие черты в их творчестве.
I
Антропологию христианского реализма Достоевский утверждал в напряженной полемике с рационалистическим сознанием, позитивистской наукой, утилитарной этикой, сводивших всю сложность и многоаспектность душевно-духовного бытия человека к элементарным и поверхностным уровням, заслоняя тем самым глубинные конфликты в нем. Достоевский был одним из первых и принципиально заинтересованных критиков таких упрощенческих подходов, которые наслаивались на истолкование коренных противоречий в мире личности. Его художественные и публицистические произведения во многом определялись, так сказать, «от противного» — отталкиванием от духа научного позитивизма и экономического прагматизма, очищением от примитивнобиологических и вульгарно-социологических напластований и реставраций этих противоречий. Причем сам процесс такого очищения и реставрации очень важен для последующего проникновения в самые глубины свободного волеизъявления человека.
На страницах записных тетрадей и подготовительных материалов к художественным произведениям размышления Достоевского о проблемах позитивистского сознания2 (как в его примитивно-натуралистическом, так и в вульгарно-социологическом вариантах) принимают последовательный и системный характер. В первом варианте своеобразие, полнота и сложность личности (с ее идеалами и идолами, противоречивыми корнями свободной воли) сводились к элементарному физиологическому уровню (мозговым процессам, рефлексам и т. п.). Чем больше освобождалась научная методология «людей из реторты» (так писатель называл позитивистов и предлагаемый ими образ человека) от духовноценностных представлений и трансцендентного измерения бытия, тем упорнее сглаживались принципиальные отличия между уникальным миром личности и природным типом существования. Герой «Записок из подполья» замечает:
«…этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь…»3.
Духовным проявлениям человека «усиленно сознающая мышь» подыскивала биологические основания, а его нравственные поступки отождествляла с инстинктивными действиями животных. В такой однолинейной картине личность лишалась значимой самостоятельности, творческой активности, всецело определялась физиологическими процессами, бессознательными влечениями и т. п.
Отказываясь в теории от метафизических спекуляций и обобщений, желая оставаться «при факте», примитивнонатуралистический позитивизм на материале физиологии, медицины, биологии вводил и распространял наблюдения
«евклидова разума» в частных специальных науках на неевклидовы явления в мире человека, безмерно далеко отстоящие от компетенции таких наук. Позитивизм проецировал собственную короткость на целостность человеческой природы, словно желая пригнуть человека и подчинить его своей узости.
Достоевский утверждал, что предлагаемый позитивизмом образ человека является «куклой, которая не существует» ( Д30 ; 20, 203), и тут «прямо учение об уничтожении воли и уменьшении личности человеческой. Вот уж и жертва людей науке»4. Ампутация в человеке всего человеческого, «центрального», сокровенного, неподвластного однозначному эмпирическому наблюдению заключается в сведении духовного к материальному, целого к части, сложного к простому, высшего к низшему, непознанного к познанному, что способствует сплошному овеществлению человеческого бытия и мышления: «учение материалистов — всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть» ( Д30 ; 20, 175).
«Смертные» признаки абсолютизации «учения материалистов» автор романного «пятикнижия» находил в создании благоприятных условий для бессознательного оправдания социал-дарвинистской мотивации в лоне, выражаясь словами Вл. Соловьева, «темной основы нашей природы» и в обесценивании духовных и нравственных категорий жизни.
В XIX в. в России интенсифицировались процессы «сокращения» трансцендентного измерения бытия и изменения христианских ценностных координат и парадигм картины мира, что происходило на Западе уже с эпохи Возрождения. В природе западного человека, как писал Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», «оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, само-промышления, самоопределения в своем собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него» (Д30; 5, 79). Эволюция возрожденческого антропоцентризма приводила к эпохе Просвещения, начиная с которой мир стал гораздо более ускоренными темпами погружаться в состояние фундаментальной метафизической раздвоенности и социально- антропологической шизофрении. Новая, без опоры на авторитеты, самоуверенность исследующего разума, все более раздроблявшего человеческое существо и разветвлявшего его специализацию, приводила и к новым парадоксам в представлении человека о самом себе.
Говоря словами А. Ф. Лосева, в новой картине мира «человек должен был превратиться в ничтожество и только бесконечно раздувался его рассудок» [Лосев: 549]. «Научные» парадигмы «раздувшегося рассудка», утопического гуманизма и просветительского сознания, в лоне которого формировались невнятные социальные проекты Нового времени, причудливо сочетали и сочетают абстрактные идеи свободы, равенства, братства, взаимного уважения, прогресса и т. п. (можно добавить современные словосочетания: прав человека, общечеловеческих ценностей, цивилизованного общества) с материалистическим принижением личности, с моральным редукционизмом и отрицанием традиций, сохранявших представление о ней как об образе и подобии Божием. «Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали, — писал Ф. Энгельс о просветителях. — Религия, понимание природы, общество, государственный строй — все было подвергнуто самой беспощадной критике; все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего. <…> Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения» [Маркс, Энгельс: 16–17].
При переходе от теоцентризма к антропоцентризму, «разбухшему рассудку» как инструменту человекобожия, «научной» власти и позитивистского господства над миром высшие христианские ценности казались «хламом» и «предрассудками», ибо препятствовали возвышению «естественного человека». Однако возводимая на «естественных» основаниях постройка вскоре превратилась, по словам того же Энгельса, в «злую карикатуру» («сатиру» в словаре Достоевского, «фарс»
в диалектике Гегеля) на блестящие обещания просветителей. И иного результата по большому счету нельзя было ожидать, ибо в «подкладке» такой «естественности», в сочетании с гуманистической риторикой республиканских и демократических новшеств заключалось реальное содержание гоббсов-ского умозаключения: «человек человеку — волк».
Метафизическую логику «самоистребляющей диалектики гуманизма» подчеркнул Н. А. Бердяев, заключавший, что «без Бога нет и человека» и что эпоха Возрождения положила начало понижению и искажению духовных ценностей и задач исторического развития в фундаментальном парадоксе гуманистической веры: «гуманизм не только утверждал самонадеянность человека, не только возносил человека, но и принижал человека, потому что перестал считать его существом высшего, Божественного происхождения, перестал утверждать его небесную родину и начал утверждать исключительно его земную родину и земное происхождение. Этим гуманизм понизил ранг человека» [Бердяев, 1969: 167].
В таком сниженном поле таилось «семя смерти», о котором упоминал Достоевский и которое в его творчестве подчеркнул Бердяев [Бердяев, 1923: 79], торжество природного человека над духовным, скрывалась утрата им образа и подобия Божия и подлинной свободы в концепциях материалистической необходимости и в переходе на поверхность и периферию жизни, в создании ложных центров просветительского, буржуазного, либерального, капиталистического, социалистического, прагматического, сциентистского и подобного жизнеустроения. Исходящие из таких центров творческие проекты, отмечает Бердяев, всегда испытывают трагическое несоответствие с их осуществлением, ибо без органической связи «с Богом» и без содержания в себе Его образа и подобия историческое движение превращается в различные формы социал-дарвинистской игры соперничающих государств и борющихся идеологий, подавляющего господства своевольных эгоцентрических интересов над духовно-нравственными принципами.
По убеждению Достоевского, подобная «игра на понижение» вела человека к потере подлинной духовной независимости и нравственному оскудению, делая собственный корыстный интерес основой существования индивидов, общественных групп, государств. «Если сказать человеку, — писал он, — нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм), — то это значит отнимать у человека личность и свободу» (Д30; 292, 87).
В новых научных теориях нет любви, а потому построенные на них отношения не изменяют лика мира сего. Эта мысль выражена в «Братьях Карамазовых»: «Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Всё будет для каждого мало, и всё будут роптать, завидовать и истреблять друг друга» ( Д30 ; 14, 275).
Отсюда и общий вывод о подспудном нигилизме господства естественнонаучного (в единстве с вульгарно-социологическим) подхода к целостному и сложному духовному миру человека: «Наука в нашем веке опровергает свое в прежнем воззрении. Всякое твое желание, всякий твой грех произошли от естественности твоих неудовлетворенных потребностей, стало быть, их надо удовлетворить. Радикальное опровержение христианства и его нравственности» ( Д30 ; 24, 164–165).
II
Именно сокращаемое, отвергаемое и опровергаемое рационалистическим, позитивистским и прагматическим сознанием входит в основу христианского реализма Достоевского, который становится методом раскрытия полноты и целостности духовного мира человека и фундаментальных конфликтов в нем.
Коренное значение художественных открытий Достоевского подчеркнул М. М. Бахтин: «Достоевский сделал дух, то есть последнюю смысловую позицию личности, предметом эстетического созерцания <…>. Он продвинул эстетическое видение вглубь, в новые глубинные пласты, но не в глубь бессознательного, а в глубь-высоту сознания» [Бахтин: 313]. Именно сосредоточенность на «последней смысловой позиции» личности и глубинно-высотных пластах сознания, зачастую сокращенных в читательском и исследовательском восприятии, превращает Достоевского в своеобразного мыслителя, рассматривавшего любую жизненную конкретику в свете основополагающих проектов развития мира «с Богом» и «без
Бога», в сопряжении главных признаков величия и ничтожества драматической мистерии человеческого существования, с сочетанием в ней, если воспользоваться известными строками Г. Р. Державина, царских (свобода, любовь, совесть, милосердие, сострадание, справедливость, честь, достоинство и т. п.) и рабских (гордыня, тщеславие, алчность, зависть, властолюбие, сребролюбие, сластолюбие, чревоугодие и т. п.), божественных и природных начал:
«…Атмосфера души его <человека> состоит из слиянья неба с землею; какое же противузаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен… Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, что мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира» ( Д30 ; 281, 50).
Исторические последствия такого нарушения подчеркнул в статье о Достоевском Вл. Соловьев:
«Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, — пока эта темная основа у нас налицо — не обращена — и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления. <…> Истинное дело возможно, только если и в человеке и в природе есть положительные и свободные силы света и добра; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеют» [Соловьев: 311, 315].
В высшей логике Достоевского никакие научные теории, революции, общественные преобразования, добрые намерения или благие пожелания не способны исцелить человека от «противузаконности», если не преображена и исцелена «темная основа нашей природы», а ее «рабские» силы исключительного эгоизма одолевают «положительные силы добра и света», присваивают и перерабатывают на свой лад любые гуманистические начинания.
Для понимания всей глубины и сложности обозначенной психоонтологической проблематики чрезвычайно важна запись, сделанная Достоевским непосредственно после кончины его первой жены.
«Возлюбить человека, как самого себя , по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек. Между тем после появления Христа, как идеала человека во плоти , стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я , — это как бы уничтожить это я , отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие. Таким образом, закон я сливается с законом гуманизма <…> человек есть на земле существо только развивающееся, след<овательно>, не оконченное, а переходное» ( Д30 ; 20, 112–113).
«Итак, человек стремится на земле к идеалу, противуполож-ному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу <…>, он чувствует страдание и назвал это состояние грехом» ( Д30 ; 20, 175).
Эта запись является ключевой для анализа творческой проблематики писателя. Соединение людей в «законе любви», приводящей к нему как к искомой высшей цели истории — таков один ее важнейший лейтмотив; органическая и обусловленная несокрушенным первородным грехом неспособность их «натуры» в «законе Я» к любви и братству — другой.
«Главное — люби других как себя, — восклицает герой рассказа “Сон смешного человека”, увидев утопическую “райскую жизнь”, — вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же!» ( Д30 ; 25, 119). И не может ужиться, утверждает Иван Карамазов в разговоре с братом Алексеем:
«…я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. <…> Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое — пропала любовь. <…> По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог. Но мы-то не боги. <…> Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда» (Достоевский: 14, 213–214).
То же мнение почти дословно высказывает Версилов в «Подростке»:
«Любить своего ближнего и не презирать его — невозможно. По-моему, человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего» ( Д30 ; 13, 175).
Углубленное исследование самих корней подобных фундаментальных парадоксов, приобретающих на поверхности душевной жизни отдельной личности и общественных отношений в целом различные выражения, становится главной писательской задачей Достоевского. Его художественно-философскую методологию «христианского реализма» можно характеризовать как пневматологию, в которой истинное значение психологических, политических, идеологических, экономических, эстетических и иных проблем раскрывается в сопоставлении с тем или иным основополагающим образом человека, с его коренными представлениями о своей природе, о подлинной сущности, об истоках, цели и смысле бытия. Сам писатель называл ее «реализмом в высшем смысле»:
«Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» ( Д30 ; 27, 65).
И еще одно самоопределение:
«При полном реализме найти человека в человеке. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного), — хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему» ( Д30 ; 27, 65).
По Достоевскому, которого мучил вопрос «существования Божия» и «последней смысловой позиции», в глубинно-высотных пластах человеческого духа спит, дремлет или бодрствует самый главный вопрос: кто есть человек — продукт стихийной игры слепых сил природы — «свинья естественная», как утверждает, например, Ракитин в «Братьях Карамазовых» и подобные ему персонажи в других романах, или образ и подобие Божие? Если человек со всеми своими духовными устремлениями и нравственными страданиями принимает себя, опираясь на материалистическую гипотезу, лишь за мышь, пусть и «усиленно сознающую мышь», тогда нелогично надеяться на какое-то братство и любовь среди людей.
И, напротив, если человек воспринимает себя как образ и подобие Божие, тогда он удовлетворяет глубинную, более или менее осознанную потребность в не теряемом со смертью смысле своего существования, а все специфически человеческие свойства, слитые с действенной памятью о Первообразе и его заповедях, становятся, по Достоевскому, не внешней условностью, а внутренней силой, способной преодолевать природный плен биологического отбора, превозмогать иго натуральных страстей, гедонистических склонностей, властных притязаний, господствующей конъюнктуры, своекорыстных расчетов, словом, тех «рабских» свойств, которые в разной степени, форме и пропорции господствуют в миропредставлении и жизненной ориентации «усиленно сознающей мыши» и вносят катастрофические элементы энтропии, дисгармонии и разлада во взаимоотношения людей. По его неизменному убеждению, от смутно ощущаемого или явно сознаваемого ответа на главный вопрос о собственной сущности, с разной степенью отчетливости и вменяемости дающий о себе знать, зависит вольное или невольное предпочтение определенных ценностей, направление воли и желаний, та психологическая доминанта, которая в конечном итоге предустанавливает и активизирует идейный выбор или конкретный рисунок жизни, судьбу отдельной личности, целого народа, всего человечества.
«Роковой и вековечный вопрос» о необходимости понятия бессмертия души для прогресса, — заключает писатель в результате раздумий о «тайне человека», как бы соединяя проблемы религии и высокой метафизики с ходом эмпирической истории и конкретной деятельностью людей.
«…Представьте себе, — размышляет он в одном из писем, — что нет Бога и бессмертия души (бессмертие души и Бог — это все одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мне тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия-то ведь всё дело в том, чтоб только достигнуть мой срок, и там хоть всё гори. А если так, то почему мне (если я только надеюсь на мою ловкость и ум, чтоб не попасться закону) и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать или почему мне если уж не резать, так прямо не жить за счет других, в одну свою утробу?» ( Д30 ; 30 1 , 10).
Опыт, однако, показывал Достоевскому, что коноводы разворачивающихся в его время цивилизационных процессов капиталистических и социалистических проектов, как бы подчинялись одной из тех обманчивых и суррогатных вер во временные и относительные ценности, которые управляют поведением людей в границах «темной основы нашей природы» — будь то вера в науку, деньги, свои собственные силы, государство, нацию, гражданское общество, цивилизацию, прогресс, самозарождающуюся Вселенную, инопланетян, в построение очередной Вавилонской башни, социального муравейника, превращающегося в курятник, хрустального дворца, оборачивающегося «парикмахерским развитием».
В историческом процессе вообще и на каждом его этапе в частности Достоевский обнаруживает тот же самый фундаментальный парадокс, что и в душе отдельного человека: сознательное, бессознательное, или даже воинственное, насильственное забвение трансцендентного измерения бытия и божественного происхождения человека при одновременно автоматически необходимой опоре на так называемые «реалистические» основания, здравый смысл или разумный эгоизм, экономическую выгоду или утилитарную мораль умаляют высшие смысловые связи людей и предполагают снижающие, вульгаризирующие модификации их проектов.
По Достоевскому, забвение своей «высшей половины», образа Божия есть болезнь (люди больны своим здоровьем, то есть утилитарной рассудочностью, иррационально оборачивающейся духовными и историческими провалами), без лечения которой в конце концов неизбежно торжествует «скотство» и «языческие фантазии». В логике писателя любой «естественный», изобретенный эмансипированным разумом идеал всегда оказывается поверхностным и грубым, не только не просветляет «темную основу нашей природы», но зачастую маскирует, утончает и усиливает её разрушительные свойства в «законе Я», а потому попытки его реализации не только не прерывают, а нередко и разветвляют цепочки господствующего в мире зла и безумия.
III
Пневматология Достоевского с ее главными вопросами и последней смысловой позицией, сама его актуальнейшая методология христианского реализма становятся своеобразным пробным камнем и точкой отсчета для понимания и оценки модных рассудочных теорий и прогрессистских идей в атмосфере, тревожившей многих русских писателей и мыслителей, находившихся в силовом поле этого реализма и сосредоточенных на тайне человека в ее слитности с тайной истории5.
В романе «Преступление и наказание» либеральствующий делец Лужин отрицает всякие «предрассудки», «романтизм», «мечтательство» во имя «экономической правды», переводя читателя уже в область вульгарно-социологического позитивизма и прагматизма, который хотя и оперировал не биологическими, а социально-экономическими категориями, но проделывал тот же логический путь, считая человека целиком и полностью «продуктом среды». Он в результате представал в виде послушной «фортепианной клавиши», постоянно реализующей свое поведение в соответствии с «игрой» социальных запросов.
В такой последовательности рассуждений «разумное» общественное устройство должно сделать «разумным» поведение и потребности каждой личности. Причем вся эта обоюдная
«разумность» сводилась вульгарными социологами к экономической пользе, эгоистической выгоде, материальному комфорту, что по-своему выразилось в популярном утилитаризме И. Бентама. Поэтому, условно говоря, представленная обществом возможность каждому есть, пить и наслаждаться автоматически ведет в их понимании к уравновешенности со средой, к гармонизации всех отдельных организмов, к искоренению помыслов из их душ подобно тому, как отождествление «бугорков» или здоровое функционирование «хвостиков», определило все в системе упрощающего натурализма, должны предотвратить или изменить то или иное противоречие.
Теорию Бентама, «гармонию» индивидуальных и общественных выгод в утилитарно-потребительском жизнеустро-ении пропагандировал в «Преступлении и наказании» упомянутый Лужин, довольный тем, что «мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего» и вместо «вредных предубеждений» занялись «новыми мыслями» и «полезными сочинениями» «во имя науки и экономической правды» ( Д30 ; 6, 115, 116). Принимая главную евангельскую заповедь за устаревший предрассудок, он противопоставляет ей эгоистический принцип личной наживы как основной двигатель повышения общего уровня материального процветания и соответственно прогресса в целом:
«Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастию, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностию, а казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться…» ( Д30 ; 6, 116).
О двусмысленности движения к совокупному процветанию через разумный эгоизм указывает Лужину Разумихин, имея в виду, что «общее дело», когда оно совершается в лоне неис-целенной «темной основы нашей природы», и в нем нет главенства «положительных сил добра и света», постоянно пакостится скрытым соперничеством и неуемной алчностью его участников. Предел же такого состояния указывает Лужину Раскольников: «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать…» ( Д30 ; 6, 118).
Такой вывод неизбежен, поскольку теория обновления всего рода человеческого посредством корыстных выгод составляющих его инвалидов не только лишена какого-то нравственного основания, но, напротив, опирается, маскируя и утончая их, на греховные начала в «законе Я» (любостяжание, алчность, тщеславие, зависть, сребролюбие, сластолюбие). Живым опровержением подобного «прогресса» становится сам Лужин, воплощающий низость, наглость и способность к любому тайному преступлению. По Достоевскому, всегдашняя заполоненность сознания материалистической пользой и эгоистической выгодой, напротив, неизменно растворяет, как в кислоте, «положительные силы добра и света», высшие свойства личности, «опровергает» и вытесняет христианские добродетели из действенной жизни в область донкихотских предрассудков, готовя «смертельную» почву для людоедских последствий. Так, Лебезятников, следящий за «новыми мыслями», убеждает Мармеладова, что «сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия» ( Д30 ; 6, 14).
В господстве материалистической философии, в уменьшении всей противоречивой полноты и сложности духовного мира человека до биологического и экономических ипостасей Достоевский обнаруживал упрощенно-утопическое понимание человеческих взаимоотношений, которое не учитывает усиления низших и ослабления высших (свобода, любовь, совесть, милосердие, справедливость, честь, достоинство и т. п.) качеств людей, стоящих, как выражается Разумихин, на «неблагородной дороге». В абсолютизации этих ипостасей писатель усматривал презрение к человеку, неверие в его способность освободиться от пут «закона Я», имеющего силу разрушить всякую гармонию, если он не исцелен христианским откровением и богоподобной любовью и не обрел подлинную свободу в евангельском контексте: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. <…> Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:32, 36). Опыт такой свободы приводил Достоевского к выделенным выше умозаключениям, созвучным свидетельству ап. Павла: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4: 16).
Естественной любви, как показано в фантастической картине «Сна смешного человека» оказывается недостаточно для сохранения гармонического состояния человечества в людской общей целостности и в «расширении соприкосновения с Целым вселенной» ( Д30 ; 25, 114). Полнота, живость и крепость слитности людей друг с другом и с природой уступают силе и торжеству «закона Я», который выражает противоположные стремления человека в употреблении своей личности, расширяют границы его самости для ее возвышения и господства над другими и находит питательную почву в «темной основе нашей природы».
Подобные стремления и стали «атомом лжи», который, как «скверную трихину», внес в объединенную естественной любовью среду людей «смешной человек», заставил их как бы потянуть мир на себя, перенести точку опоры в особняковое Я, тем самым перекосив и перепутав их гармонические отношения. Результат (как бы исполняющий рецепт Лужина) не замедлил сказаться:
«…каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал» ( Д30 ; 25, 116).
И началась «борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое» ( Д30 ; 25, 116), борьба, возбудившая зависть и сладострастие, породившая взаимную тиранию, и любовно-дружественные связи превратились во враждебно-господственные.
Картина, нарисованная в «Сне смешного человека», перекликается с изображением сна Раскольникова. В ней «какие-то новые трихины», «духи, одаренные умом и волей» ( Д30 ; 6, 419) вселили в души людей тот же «атом лжи» в «законе Я»: «всякий думал, что в нем одном и заключается истина» ( Д30 ; 6, 420). Ну а дальше все пошло уже по наезженной колее:
«Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. <…> В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало» ( Д30 ; 6, 419–420).
IV
Точно такой же путь проделывает через «закон Я» внешне благообразная утилитаристская теория Бентама в «Русских ночах» В. Ф. Одоевского, где до Ф. М. Достоевского словно иллюстрируются вышеприведенная «дискуссия» персонажей «Преступления и наказания», обозначивших ход развития принципа пользы и выгоды как верховного и абсолютного к конечному выводу, что людей можно и должно убивать ради него. В главе «Город без имени» Одоевский показывает печальный конец вымышленной страны «Бентамии», превратившейся в кладбище утопических чаяний и упований, в «могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоми-наний»6. Она зародилась в XVIII столетии, когда все умы были захвачены идеями справедливого общественного устройства, спорили о причинах упадка и благоденствия государств. Тогда появилось убеждение, что примирить всевозможные индивидуальные и общественные противоречия и конфликты способен принцип пользы, которая «есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! <…> Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия» (63).
Все прежние духовные ценности и традиции были отброшены как старый хлам, бесполезное считалось главным источником человеческих бедствий, воздвигались храмы в честь Пользы и Бентама, детей учили по книгам «откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов» (64). Колония процветала, но когда рядом с ней появились соседи, добивавшиеся успехов без всякой системы, принцип пользы пробудил в бентамитах соблазн эксплуатации, «наживы за счет ближнего», «разными хитростями» и мошенническими приемами в «законных формах», вовлекая тех в банкротство и биржевую игру, провоцируя конфликты с другими колониями.
Когда соседи разорились, бентамиты единогласно решили, что для дальнейшего роста пользы необходимо завладеть и их землей (хотя находились и «вредные мечтатели», недовольные посягновением на чужую собственность). Споры заключались только в том, как полезнее и выгоднее это сделать — с помощью денег или военной силы. Математические выкладки склоняли ко второму варианту: «имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными» (66).
Если погружаться в «глубину души», равно как и в «глубину логики», заявляет персонаж «Русских ночей» Фауст, то в ходе этого процесса при обсуждении утилитаристских и прагматических идей нельзя не споткнуться:
«…Бентаму, например, ничего не стоило перескочить от частной пользы к пользе общественной , не заметив, что в его системе между ними бездна» (Одоевский: 60).
Именно в этой бездне «темной основы нашей природы» работает «закон Я» с его корыстными интересами, властными притязаниями, гедонистическими импульсами и т. п., которые склоняют общественную пользу в свою эгоцентрическую сторону, что демонстрирует конфликт уже внутри самой колонии бентамитов. Групповые, партийные, индивидуальные представления о пользе раздробляли государство, терялось понимание взаимных уступок и необходимости чем-то жертвовать ради блага будущих поколений. Противоположные выгоды встречались и сталкивались, торжествовал «банкирский феодализм», одни наживались, другие разорялись. Под видом «неограниченной, так называемой священной свободы» устраивались махинации и искусственные банкротства, задерживались и перепродавались товары, поднимались или падали цены, никто не хотел пожертвовать частью своих выгод ради общих. «Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе несколько вещественных выгод», а дети научились «избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду» (68).
Эгоизм стал «единственным, святым правилом жизни»:
«Обман, подлоги, умышленное банкрутство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходорасходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила, — а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились» (69).
Для характеристики метаморфоз бентамовского утилитаризма в «Русских ночах» важно иметь в виду еще одно общее высказывание Фауста:
«Но сохрани нас бог сосредоточить все умственные, нравственные и физические силы на одно материальное направление, как бы полезно оно ни было: будут ли то железные дороги, бумажные прядильни, сукновальни или ситцевые фабрики. Односторонность есть яд нынешних обществ и тайная причина всех жалоб, смут и недоумений; когда одна ветвь живет на счет целого дерева — дерево иссыхает» (Одоевский: 35).
В свете христианского реализма утопический яд материалистической и утилитаристской односторонности в понимании человека и творимой им истории заключается в отвлечении внимания от коренных духовно-нравственных конфликтов в его природе и в непредусмотрительности по отношению к заложенным в таком подходе последствиям «закона Я», в разрастании флюса «рабского», материального, низшего, эгоистического за счет «царского», духовного, высшего, альтруистического.
Одоевский и Достоевский не сомневались в том, что взаимосвязь иссякновения «таинственных источников духа» и оживления нигилистических сил «темной основы нашей природы» в «законе Я» прокладывает путь на кладбище европейской цивилизации. По многократно и акцентированно выраженному убеждению Достоевского, именно духовная ослабленность и нравственная необеспеченность либеральных и полулиберальных установлений, утилитарных мечтаний и позитивистских иллюзий, их произрастание из энтропийных корней эгоцентризма и открывает пути для их реальных мутаций и непредсказуемых результатов при достижении своекорыстных интересов и извращенно понимаемой пользы. В подобной антропосфере моральные гарантии и общепринятые юридические нормы перестают играть охранительную роль, становятся все более необязательными и относительными, все чаще начинают выполнять роль своеобразной пудры и дымовой навесы для наращивания и реализации материальных приобретений, открывая через демагогию лазейки, окна и двери для осуществления «права сильного», права «тигров и крокодилов», как выражается один из персонажей романа «Идиот» ( Д30 ; 8, 245).
Рационализм, позитивизм и утилитаризм не пресекают, а лишь смягчают и усовершенствуют действие изначальных свойств «темной основы нашей природы» и вступают в невидимое противоборство с «высшей половиной» человека, с образом и подобием Божиим в нем, способствуют постоянно тлеющему нарушению социальной гармонии, перерастанию мира в войну. Достоевский проницательно исследует образование почвы для такого перерастания, анализируя фактическое душевно-духовное состояние современных людей и раскрывая утопичность не только утилитаристских воззрений, но и столь популярной ныне теории наименьшего зла (демократические институты несовершенны, но лучшего, дескать, нельзя придумать). Говорят, размышляет писатель, что «мир родит богатство, но ведь одной десятой доли людей» ( Д30 ; 25, 101). От излишнего скопления богатства в одних руках развивается грубость чувств, капризных излишеств и ненормальностей, возбуждается сладострастие, провоцирующее одновременно жестокость и слишком трусливую заботу о самообеспечении. Болезни богатства, продолжает он, передаются и остальным девяти десятым, хотя и без богатства. Панический страх за себя сообщается всем слоям общества и вызывает «страшную жажду накопления и приобретения денег». Утробный эгоизм и приобретательская самозащита умерщвляют духовные запросы и веру в братскую солидарность людей на христианских началах. «В результате же оказывается, что буржуазный долгий мир, все-таки, в конце концов, всегда почти сам зарождает потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, <…> из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, <…> из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, — словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма» ( Д30 ; 25, 102).
Подобные закономерности заставляли Достоевского утверждать, что никакие умозрительные согласования индивидуальных и общественных интересов не способны предотвратить катастрофу, если сохраняется «низкое» состояние человеческих душ, видимое или невидимое сталкивание интересов которых в их представлениях о полезном, порождает все новые материальные потребности и соответственно требует скрытого разнообразия всевозможных захватов. В результате мирное время рассудочных силлогизмов и идеологических теорий, технического прогресса и бескровных революций, если оно не способствует преображению эгоцентрических начал человеческой деятельности, а напротив, создает для них питательную среду, само накапливает враждебный потенциал и готовит грядущие катаклизмы, неизбежно в границах и атмосфере развития утилитарно-потребительских ценностей цивилизационного прогресса. Говоря о грядущих результатах и достижениях науки и техники в деле преобразования и покорения природы, он спрашивал в «Дневнике писателя»: «…что бы тогда сталось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека <…>.
Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них всё украл разом; что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за “камни, обращенные в хлебы”» ( Д30 ; 22, 33–34).
Цена обращения с помощью «камней» природы в «хлебы» цивилизации оказывается настолько великой, что плоды технического прогресса не только не способствуют духовному совершенствованию человека (и на это надеялись и до сих пор еще надеются разнородные «прогрессисты»), но, напротив, понижают его духовную высоту и теснят потребительскими идолами, гедонистическим миропониманием с его эксцессами и недружественной разделенностью людей и народов, иссяк-новение источников духа в сознании обоих сравниваемых писателей чревато порождением процессов деградации:
«При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее . Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. <…> И заметьте, как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться» ( Д30 ; 26, 165–166).
С точки зрения Достоевского, которую подтверждает рассмотренная в статье антропологическая и историософская логика Одоевского, политическое, экономическое, культурное, научное развитие и успехи каждой нации получают реальное содержание и подлинное значение при единении людей во имя общего духовного и нравственного идеала в «законе любви», а не для спасения «животишек» и господства жизнеощущения «после меня хоть потоп» в «законе Я».
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Анализ, интерпретация и понимание как методологические установки в изучении наследия Достоевского», № 18-012-90043.
-
1 См. его труды [Захаров, 2001, 2012, 2013]. В научном журнале «Проблемы исторической поэтики», главным редактором которого является В. Н. Захаров, публикуются разнообразные исследования, раскрывающие элементы христианского реализма в литературных произведениях. См. об этом также [Есаулов, 2007, 2012], [Моторин], [Степанян]. В настоящей статье понятие «христианский реализм» используется при рассмотрении самых основ мировоззрения и художественного мышления Ф. М. Достоевского, его антропологической и историософской логики, перекликающейся с ходом мысли В. Ф. Одоевского.
-
2 Об этих проблемах, в том числе и применительно к творчеству Одоевского, см. в работах отечественных исследователей [Белопольский], [Сытина], [Тахо-Годи], [Тарасов], [Моторин], а также ряда зарубежных исследователей [Hackard], [John], [Zohrab].
-
3 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 104. Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с использованием сокращения Д30 и указанием тома и страницы.
-
4 Записная тетрадь 1875–1876 гг. // Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. М.: Наука, 1971. С. 447. (Литературное наследство; т. 83)
-
5 Тютчев писал:
«Нет веры к вымыслам чудесным, Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным И воздух, и моря, и сушу, Как пленников — их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил, Что в дерево вливала душу, Давала тело бестелесным» («А. Н. Муравьеву»).
Тютчев Ф. М. Полн. собр. соч.. СПб.: Издание т-ва А. Ф. Маркс, 1912. С. 12.
Сходное настроение выражено и в стихах Боратынского:
«Век шествует путем своим железным;
В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчётливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы»
(«Последний поэт»)
Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. Ч. 1. М.: Языки славянских культур, 2012. С. 14.
Пушкин также был озабочен неоднозначными утилитарными связями результатов рассудочного просвещения, когда «страсть к довольству» подавляет «всё возвышающее душу человеческую» (см. статью А. С. Пушкина «Джон Теннер»).
Дух железного века и опустошающего рассудка уже в первой половине XIX столетия зашел настолько далеко, что И. В. Киреевский с известной долей фатализма отмечал: «Одно осталось серьезное для человека — это промышленность, ибо для него уцелела одна действительность бытия: его физическая личность. Промышленность управляет миром без веры и поэзии. Она в наше время соединяет и разделяет людей; она определяет Отечество, она обозначает сословия, она лежит в основании государственных устройств, она движет народами, она объявляет войну, заключает мир, изменяет нравы, дает направление наукам, характер — образованности; ей поклоняются, ей строят храмы, она действительное божество, в которое верят нелицемерно и которому повинуются. Бескорыстная деятельность сделалась невероятною; она принимает такое же значение в мире современном, какое во времена Сервантеса получила деятельность рыцарская» [Киреевский: 257].
-
6 Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. С. 62. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
About the author: Tarasov Boris N. — Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of foreign literature, The Maxim Gorky Literature Institute (Tverskoy Boulevard 25, Moscow, 123104, Russian Federation)
Received: February 27, 2019
Date of publication: June 28, 2019
Список литературы Утопизм западного рационализма, позитивизма и утилитаризма в зеркале антропологической и историософской мысли Ф. М. Достоевского и В. Ф. Одоевского
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979 - 424 с.
- Белопольский В. Н. Достоевский и позитивизм. - Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1985. - 74 с.
- Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. - Прага: YMCA press, 1923. - 238 c.
- Бердяев Н. А. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. - Париж: YMCA-PRESS, 1969. - 272 с.
- Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. и писем. - М.: Языки славянских культур, 2012. - Т. 3. - Ч. 1. - 608 с.
- Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него // Новое литературное обозрение. - 1993. - № 2. - С. 70-89.
- Есаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип русской классики // Феномен русской духовности. - Калининград: РГУ им. Канта, 2007. - С. 9-20.
- Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. - СПб: Алетейя, 2012. - 448 с.
- Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2001. - Вып. 6. - С. 5-20 [Электронный ресурс]. - URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2511 (18.03.2019).
- DOI: 10.15393/j9.art.2001.2511
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. - М.: Индрик, 2012. - 264 с.
- Захаров В. Н. Имя автора - Достоевский. - М.: Индрик, 2013. - 456 с.
- Киреевский И. В. Избранные статьи. - М.: Современник, 1984. - 384 с.
- Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. - М.: Мысль, 1978. - 623 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 39 т. 2-е изд. - М.: Гос. изд-во политической литературы, 1961. - Т. 20. - 828 с.
- Моторин А. В. Теория русской словесности. - Великий Новгород: Новгородский гос. университет, 2013. - 300 с.
- Соловьев Вл. Сочинения: в 2 т. - М.: Мысль, 1988. - Т. 2. - 822 с.
- Степанян К. А. Человек в свете «реализма в высшем смысле» (Достоевский, Шекспир, Сервантес, Бальзак, Маканин) // Вопросы философии. - 2014. - № 5. - С. 98-103.
- Сытина Ю. Н. Сочинения князя В. Ф. Одоевского в периодике 1830-х годов. - М.: Индрик, 2019. - 390 с.
- Тахо-Годи Е. А. Творчество А. Ф. Лосева и литературно-философские искания В. Ф. Одоевского // Литературоведческий журнал. - М.: ИНИОН, 2011. - № 28. - С. 113-121.
- Тютчев Ф. М. Полн. собр. соч. - Спб.: Издание т-ва А. Ф. Маркс, 1912. - 713 с.
- Шульц А. С. «Русские ночи» В. Ф. Одоевского и полифонические романы Ф. М. Достоевского // Филологические науки. - М.: Изд-во «Грамота», 2009. - № 6. - С. 21-26.
- Hackard M. Dostoevsky: Demonic rationalism // The Soul of the East [Электронный ресурс]. - URL: https://souloftheeast.org/2015/09/04/dostoevsky-demonic-rationalism/ (18.03.2019)
- John P. Diggins. Ideologie and Pragmatism: Philosophy or passion? // The American political science review. - Cambridge: Cambridge University Press, 1970. - Vol. 64. - № 3. - Pp. 879-906.
- Tarasov B. Рационализм, позитивизм и прагматизм как питательная среда для формирования преступного замысла Раскольникова // Mundo Eslavo. - 2017. - № 16. - С. 262-272.
- Zohrab Irene. Dostoevsky and Herbert Spencer // Dostoevsky Studies. - 1986. - № 7. - P. 45-72.