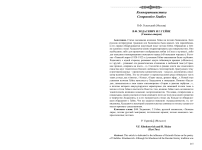В. Ф. Ходасевич и Г. Гейне. (статья вторая)
Автор: Успенский Павел Федорович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 3 (42), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена влиянию Гейне на поэзию Ходасевича. Хотя русская литературная традиция для Ходасевича была важнее, чем европейская, в его лирике обнаруживается ощутимый пласт поэзии Гейне. Обращение к Гейне в ранних стихах Ходасевича можно охарактеризовать как поверхностное. Оно необходимо либо для ироничного изображения любви («Стихи о кузине»), либо для описания типизированного немецкого города («В немецком городке»). В стихах «Тяжелой лиры» (1920-1922 гг.) усвоение Гейне оказывается более глубоким. Ходасевич, с одной стороны, развивает едкую гейневскую иронию («Жизель»), а с другой - усваивает его романтическое отношение к любовной теме («Странник прошел, опираясь на посох…»). Соседство в рамках книги как смыслового единства двух тематически близких любовных стихотворений, трактующих тему в противоположных - ироничном и романтиче-ском - модусах, несомненно, индикатор влияния Гейне. Это не отменяет и переосмысления ряда гейневских тем в таких стихах, как «Анюте», «Улика», «Горит звезда, дрожит эфир…». Новый этап усвоения поэтики Гейне наметился у Ходасевича в эмиграции. Помимо «Баллады», показательно в этом плане стихотворение «Старик и девочка-горбунья…», в поэтике которого аккумулируются характерные для немецкой поэзии темы в целом и стихи Гейне в частности. Вместе с тем, влияние Гейне здесь осложняется тематическим влиянием немецких экспрессионистов. Эта новая, сатирическая и социальная, линия усвоения стихов немецкого поэта не получила своего развития в творчестве Ходасевича, и в его эмигрантских стихах мы больше не обнаруживаем обращения к Гейне. Что же касается немецких экспрессионистов, то, по-видимому, Ходасевич в некоторой степени испытал влияние их поэзии, однако его нельзя признать существенным.
В.ф. ходасевич, г. гейне, русский символизм, "тяжелая ли-ра", поэзия русской эмиграции, поэтическая ирония, поэзия немецкого экспрессионизма, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14914634
IDR: 14914634
Текст научной статьи В. Ф. Ходасевич и Г. Гейне. (статья вторая)
Новый виток поэтической эволюции В. Ходасевича пришелся на начало 1920-х гг. Именно тогда им были написаны стихотворения, обеспечившие поэту важное место в литературном пантеоне XX в. В поэтике «Тяжелой лиры» поэзия Гейне играет, как кажется, весьма заметную и примечательную роль.
1 мая 1922 г. Ходасевич написал стихотворение «Жизель»:
Да, да! В слепой и нежной страсти И что ж? Могильный камень двигать Переболей, перегори, Опять придется над собой,
Рви сердце, как письмо, на части, Опять любить и ножкой дрыгать Сойди с ума, потом умри. На сцене лунно-голубой1.
Исследователи уже обращали внимание на приведенное стихотворение. Обстоятельства его создания и его связь с балетом А. Адана проанализированы Д. Хитровой2, а неожиданный смысловой поворот в финале текста (характерный прием для стихов «Тяжелой лиры») был связан с эпиграмматической поэтикой «серьезных» стихов Е.А. Боратынского3. Стоит добавить, что выраженная у Ходасевича идея вечного повторения на уровне поэтического приема навеяна хрестоматийным стихотворением А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека», с его безысходной невозможно-216

стью вырваться из постылого круга бытия даже после смерти (ср. «Умрешь - начнешь опять сначала» - «...Могильный камень двигать / Опять придется над собой»).
Однако сквозь русские источники просвечивает поэтика Гейне. Структура и ироничное отношение автора к героине в «Жизели» навеяно хрестоматийным стихотворением «последнего немецкого романтика» из цикла «Разные»:
Das Fraulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang.
Es riihrte sie so sehre der Sonnenuntergang.
Mein Fraulein! sein Sie munter,
Das ist ein altes Stuck;
Hier vorne geht sie unter Und kehrt von hinten zurtick.
Барышня стояла у моря И вздыхала долго и тревожно.
Ее так сильно волновал Закат.
Моя барышня! взбодритесь, это старая пьеса;
Здесь впереди оно заходит, И встает обратно сзади.
Стояла барышня у моря,
Вздыхая долго, тяжело,
От сожаления и горя, Что в море солнышко зашло.
Утешьтесь, барышня! Светило
Давно уж так игру ведет:
Сегодня спереди уплыло,
А завтра сзади вновь встает.
(пер. П.И. Вейнберга)5
Сходство стихов Ходасевича и Гейне проявляется на уровне структуры. У Гейне природа предстает подобием театральной сцены, события на которой развиваются по однообразному предписанному порядку (закат-восход). На его фоне горе героини становится предельно театральным и условным. Образ барышни предстает вдвойне ироничным, потому что ее утрированные эмоции делаются как бы частью романтической пьесы («это старая пьеса»), диссонирующей с порядком мироздания.
Ходасевич также наделяет свою героиню театральными чертами. Включая в текст элемент неожиданного смыслового поворота, поэт моделирует широкую амплитуду эмоционального состояния героини - от крайнего отчаяния до привычного чувства любви («опять любить») и сниженного поведения («и ножкой дрыгать»). Мир в стихах Ходасевича - это одновременно и балет (см. заглавие - «Жизель»), и реальный мир, которому приписывается структура театральной сцены, а героиня является и балериной, исполняющей одну и ту же роль, и женщиной, живущей в реальном мире по театральным шаблонам. Это противоречие и есть основной нерв стихотворения, но сейчас важно обратить внимание не на его театральный, а на реальный план, которому приписываются свойства театра. Этот план дается в иронично-уничижительном модусе, и здесь Ходасевич как будто бы повторяет и развивает структуру стихотворения Гейне, так что «Жизель», по сути, оказывается антиромантическим стихотворением, высмеивающим идею страстной любви как единственного смысла жизни.
Вместе с тем, в той же «Тяжелой лире» есть стихотворение «Странник прошел, опираясь на посох...» (1922), смысловой план которого, наоборот, связан с идеей любовной одержимости как чистого переживания и высокого чувства: «Вечером лампу зажгут в коридоре - / Мне непременно припомнишься ты. / Что б ни случилось, на суше, на море / Или на небе, - мне вспомнишься ты»6. В этом стихотворении любовное чувство гиперболизируется, однако в его описании нет иронии. Получается, что в рамках поэтического сборника как смыслового единства Ходасевич сопо-лагает два стихотворения с одной и той же основной «романтической» темой, которая дана в противоположных модусах: в предельно серьезном и в предельно ироничном. Это одновременное сочетание полярных трактовок любовной темы напоминает нам целый ряд гейневских циклов, в которых чувство лирического героя всегда то иронично, то предельно серьезно.
Еще одно любовное стихотворение «Тяжелой лиры» связано с Гейне тематически. В «Улике» (1922) Ходасевич моделирует ситуацию, в которой лирический герой за чинным чаепитием в гостях «уличен» «в нездешнем счастьи»: «И вот - среди беседы чинной / Я вдруг с растерянным лицом / Снимаю волос, тонкий, длинный, / Забытый на плече моем. // Тут гость из-за стакана чая / Хитро косится на меня»7. Лирическая ситуация «Улики» преемственна по отношению к одному стихотворению из цикла Гейне «Лирическое интермеццо», в котором персонажи собрались за чайным столом и рассуждали о любви; лирический герой не принимал участия в разговоре, однако от других участников застолья его отличало не только молчание, но и пережитый любовный опыт:
Sie saBen und tranken am Theetisch, Und sprachen von Liebe viel.
Die Herren, die waren asthetisch, Die Damen von zartem Gefiihl.
Am Tische war noch ein Platzchen;
Mein Liebchen, da hast du gefehlt.
Du hattest so hubsch, mein Schatzchen, Von deiner Liebe erzahlt.8
Они сидели и пили за чайным столиком, И много говорили о любви.
Господа, которые были эстетами,
Дамы нежных чувств.
За столом было еще местечко;
Моя милая, тебя там не хватало.
Ты бы так мило, мое сокровище,
Рассказала о твоей любви.
За чаем, компаньей обычною Собравшись, они о любви говорили; Мужчины с душой эстетичною, Дамы с нежными чувствами были.
За Чайным столом оставалось местеч-ко -Тебе, моя крошка его бы занять:
О том, что такое любовь, ты словечко Чудесное им бы сумела сказать
(пер. П.И. Вейнберга)9.
Нельзя не признать, что обращение к героине в этом стихотворении неоднозначно. С одной стороны, лирический герой приравнивает ее к празднословному светскому обществу, дословно указывает ей «ее место». С другой стороны (этой версии придерживается переводчик), в обращении можно увидеть и уверенность лирического героя в том, что его отношения с возлюбленной являются подлинными, в отличие от опыта рассуждающих за чайным столом. Точно такой же версии следует и другой переводчик этого стихотворения - И. Анненский, перевод которого, вероятно, был известен Ходасевичу: «Досадно, малютке при этом / Моей говорить не пришлось: / Она изучала с поэтом / Довольно подробно вопрос.. ,»10.
На сюжетном и мотивном уровне «Улика» ориентирована на стихи Гейне (чаепитие, отсутствующая возлюбленная, подлинная любовь), однако Ходасевич сильно редуцирует микросюжет беседы о любви, предпочитая сосредоточиться на внутренних переживаниях лирического героя.
По наблюдению Д. Бетеа, ряд других, не любовных, стихотворений «Тяжелой лиры» актуализирует немецкую романтическую иронию (прежде всего текст 1921 г. «Горит звезда, дрожит эфир...»)11, но конкретных лексических или тематических перекличек с Гейне мы в этих текстах не обнаруживаем. Впрочем, уже упомянутое стихотворение «Горит звезда, дрожит эфир» можно рассмотреть как полемику с циклом Гейне «Песни о миротворении», который рассказывает о том, как Зевс сотворил мир, причем значительная часть повествования отдается самому творцу. Строки Ходасевича - «И я творю из ничего / Твои моря, пустыни, горы»12 - выглядят как полемическое переосмысление строк немецкого поэта: «Из пальца высосать нельзя / Материал стихов, сюжеты; / Мир сотворить из ничего / Ни бог не может, ни поэты» (пер. П.И. Вейнберга^3.
Нам осталось рассмотреть эмигрантский период творчества Ходасевича. В стихах, вошедших в «Европейскую ночь» (тексты 1922-1927 гг), рефлексы Гейне, по мнению И. Ронен, напрямую проявляются в «Балладе» (1925). С точки зрения исследовательницы, мотив «бичевания ангелов» был использован Гейне в стихотворении «Сумерки богов», в котором «уродливые карлики избивали ангелов, один из них даже набрасывался на ангела поэта», и этот сюжет описывает «крушение миропорядка, гибель гармонии и поэзии, воцарение ночи»14. См. у Гейне: : «...die Zwerge schla-gen / Mil FlammengeiBeln auf der Englein Riicken /<...> Und ein entsetzlich haBlich schwarzer Kobold / ReiBt ihn vom Boden, meinen bleichen Engel» . 15. (Ср. в переводе П.И. Вейнберга: «А карлики бичами из огня / Бьют ангелов, за волосы хватают, <.. > И вижу я, как черный, гадкий кобольд / Хватает вдруг тебя, мой бедный ангел»16). Эти строки находят соответствие в «Балладе»: “Ремянный бич я достаю / С протяжным окриком тогда / И ангелов наотмашь бью, / И ангелы сквозь провода // Взлетают в городскую высь»17. Впрочем, говоря о «Балладе», нельзя не отметить, что Ходасевич заимствует у Гейне только один мотив - избиение ангелов. Гораздо важнее для поэтических элементов «Баллады» лирика Н.А. Некрасова в целом и сюжет избитой кнутом музы в частности18.
Среди эмигрантских стихов выделяется еще одно стихотворение (1922), аккумулирующее «немецкую» тему и связанное, в частности, с одним из важнейших текстов Гейне:
|
Старик и девочка - горбунья Под липами, в осенний дождь. Поет убогая певунья Про тишину германских рощ. |
Шарманочка! Погромче взвизгни! С грядущим веком говорю, Провозглашая волчьей жизни Золотожелчную зарю. |
|
Валы шарманки завывают; Кругом прохожие снуют... Неправда! Рощи не бывают, И соловьи в них не поют! |
Еще бездельники и дети Былую славят красоту, -Я приучаю спину к плети И каждый день полы мету. |
|
Молчи, берлинский призрак горький, Дитя язвительной мечты! Под этою дождливой зорькой Обречена исчезнуть ты! |
Но есть высокое веселье, Идя по улице сырой, Как бы.....новоселье Суровой праздновать душой19. |
Лирическая ситуация этого стихотворения связана с двумя претекстами: со стихотворением В. Мюллера «Шарманщик», ставшим широко известным благодаря романсу на музыку Ф. Шуберта, и с первой главой поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка» (1844).
Из текста Мюллера Ходасевич позаимствовал образ старика-шарманщика, проходящих мимо людей и общую атмосферу тоскливости:
Driiben hinterm Dorfe Там за деревней В дальнем закоулке steht ein Leiermann, стоит шарманщик, Дед стоит седой und mit starren Fingern и затвердевшими паль- И шарманку вертит dreht er, was er kann. цами Дряхлою рукой.
крутит, как может.
Keiner mag ihn horen, Мимо идут люди, keiner sieht ihn an, Никто не хочет его слу- Слушать не хотят — und die Hunde knurren шать, Только псы лихие urn den alien Mann. Деда теребят.
Und er laBt es gehen Alles, wie es will, Dreht, und seine Leier Steht ihm nimmer still.20
никто не смотрит на него, и собаки рычат на старика.
И он позволяет идти всему своим чередом, Крутит, и его Шарманка Никогда не замолкает.
Уж давно о счастье Дед не ворожит, Старую шарманку Знай себе крутит... (пер. И. Анненского^
В стихотворении Ходасевича, однако, есть еще один персонаж, осложняющий смысл текста, - это поющая девочка. Сюжет с поющей девочкой появляется под влиянием начала поэмы Гейне. Лирический герой «печальной осенней порой» (ср. «в осенний дождь») вернулся на родину и услышал фальшивое и чувствительное пение девочки, которая пела о будущей лучшей жизни в «лучшей стране». Этой религиозной утопии лирический герой противопоставляет свою «новую» политическую песнь о социальном счастье:
Ein kleines Harfenmadchen sang.
Sie sang mit wahrem Geftihle
Und falscher Stimme, doch ward ich sehr
Gertihret von ihrem Spiele.
Sie sang von Liebe und Lie-besgram,
Aufopfrung und Wiederfin-den
Dort oben, in jener besseren Welt,
Wo alle Leiden schwinden.
Ein nenes Lied, ein besseres Lied,
О Freunde, will ich euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten ,22
Маленькая девочка-арфистка пела.
Она пела с подлинным чувством и фальшивым голосом, но я был очень Тронут ее игрой.
Она пела о любви и любовной скорби, Самопожертвовании и обретении заново Там наверху, в лучшем мире, Где все страдания кончаются.
Новая песня, лучшая песня,
О друзья, я хочу вам сочинить!
Мы хотим здесь, уже на земле
Построить царство небесное.
Малютка-артистка запела; она
И чувствительно пела, И очень фальшиво; но тронуть меня
Игрою глубоко сумела.
Мне пела она про любовь, про ея
Мучения, жертвы, свиданья -
Там, в выси небесной, в той лучшей стране, Где все исчезают страданья.
Нет, новую песнь, о друзья! пропою Для вас я - песнь лучшего склада
Устроить небесное царство себе
Нам здесь на земле уже надо
(пер. П.И. Вейнебер-га(-\
Песня о «рощах» и «соловьях», описанная в стихах Ходасевича, восходит к процитированному фрагменту Гейне. Из него же Ходасевич заимствует противопоставление мира, описанного в песне, и жестокой реальности: «Неправда! Рощи не бывают...».
Отказ от романтической образности напоминает поэзию «Молодой Германии», литературного направления 1830-х гг. (одним из ключевых авторов которого был Гейне), члены которого разделяли либеральные ценности и ставили своей задачей революционную пропаганду в литературе. Воспроизводя риторику стихотворений «Молодой Германии», Ходасевич разрушает созданный романтиками («бездельники и дети») идеализированный образ страны («под липами», «германские рощи», «соловьи») за счет утрированно реалистичных описаний социально неблагополучной жизни: нищета (старик-шарманщик), физический труд («каждый день полы мету»), истязания («Я приучаю спину к плети»).
Вместе с тем, явно утопическому социалистическому проекту «Зимней сказки» Гейне поэт XX в. противопоставляет новые, страшные времена: «Провозглашаю волчьей жизни / Золотожелчную зарю». Новая «волчья» эпоха, о которой говорится в стихотворении «Старик и девочка-горбунья», - это прообраз пессимистичного видения Европы и исторического процесса, которое наиболее отчетливо выражено в стихах «Европейской ночи».
Идея нового страшного времени, в свою очередь, отсылает к предельно актуальному для 1920-х гг. XX в. литературному контексту - лирике немецких экспрессионистов. Мотив самоистязания («Я приучаю спину к плети») и особенно мотив физического уродства как знак трагичности и отвратительности мироздания («девочка горбунья»), - соотносится с экспрессионисткой поэзией, в которой неоднократно проявляются мотивы физического уродства и инвалидности (см., например, стихи Г. Гейма, Г. Бенна и др. в изданной в 1919 г. антологии «Menschheitsdammerung»; некоторые примеры героев-инвалидов есть и в русском переводе антологии «Сумерки человечества»24).
Таким образом, в стихотворении Ходасевича воспроизводится риторика социально-политических стихов Гейне, однако образность текста отсылает к актуальному для 1920-х гг. литературному контексту - лирике немецких экспрессионистов.
Другие эмигрантские стихи (прежде всего, вошедшие в «Европейскую ночь») в плане мировоззрения и поэтики ориентированы в большей степени на русскую традицию, прежде всего, на творчество А.И. Герцена и Н.А. Некрасова25. Однако иногда в них возникают специфические анти-эстетические образы, роднящие их с городскими стихами Бодлера и отчасти - с немецкими экспрессионистами (роль романа Г. Майринка «Голем» в «Европейской ночи» нам кажется преувеличенной26).
Так, например, описание отталкивающих танцовщиц затрапезного кабаре в стихотворении «Звезды» (1925) тематически перекликается с циклом стихов Якоба Ван Годдиса «Варьете» (Varieffi, 1911), в котором в антиэстетичном и ироничном модусе описываются выступающие на сцене актеры и актрисы27.
Как образ «домов-демонов» из стихотворения «С берлинской улицы...» (1922-1923) - «Дома - как демоны, / Между домами - мрак; / Шеренги демонов, / И между них - сквозняк», так и общий демонический колорит стихотворения («Как ведьмы, по трое / Тогда выходим мы»28) могли быть подсказаны Ходасевичу стихами Г. Гейма «Демоны городов» (Die Damo-nen der Stadte, 1911). В них Гейм пишет о зловещих и огромных демонах, которые творят бесчинства и несчастья в городах29. Интересно, что это стихотворение Ходасевич мог знать в русском переводе В. Нейштадта30.
Наконец, загадочный и отвратительный «гном» из стихотворения «Дачное» (1923-1924) - «Блудливые невесты с женихами, / Слипаются, накрытые зонтами, // А им под юбку лазит с фонарем / Полуслепой, широкоротый гном»31 - как будто пришел из стихотворения Гейма «Проклятье большим городам» (1912), в котором описываются отвратительные уличные сцены, причем гном появляется как раз в эротическом контексте:
Dutch einer StraBe blas-se Morgenrote
Tanzt hin ein Weib, das schon der Tod verwest. Ein Zwerg hinkt vorn, der eine wilde Fldte Aus seinem weiBen Af-fenbarte blast ,32
По улице бледная заря Танцует баба, которую уже разлагает смерть. Впереди хромает гном, который в дикую флейту Дует из своей белой обезьяньей бороды.
По улице в проплешинах рассвета Враскачку баба, тронутая тлом, Бредет под улюлюканьем кларнета -На нем играет бесноватый гном (пер. В. Топорова) ".
Хотя в стихах Ходасевича описывается не городское, а «дачное» пространство, очевидно, смысловые интенции текстов русского и немецкого поэта совпадают: все их герои, используя слова поэта, - «уродики, уродища, уроды».
Впрочем, указанные схождения стихов Ходасевича с произведениями немецких экспрессионистов едва ли можно считать существенными: их не очень много, и они ограничиваются лишь совпадением того или иного образа или, наоборот, общими тематическими перекличками. Парадоксальным образом, живя в Берлине и Париже, Ходасевич меньше всего обращался к современной европейской литературе.
Подведем итоги. Как мы старались показать, Гейне для Ходасевича был достаточно важным поэтом, хотя его влияние уступает влиянию символистов или русских поэтов XIX в. По мере эволюции Ходасевича менялось и его отношение к «последнему немецкому романтику». Обращение к нему в ранних стихах можно охарактеризовать как поверхностное. Оно необходимо либо для ироничного изображения любви («Стихи о кузине»), либо для описания типизированного немецкого города («В немецком городке»), В период поэтического расцвета - в стихах «Тяжелой лиры» - усвоение Гейне оказывается более глубоким. Ходасевич, с одной стороны, развивает едкую гейневскую иронию («Жизель»), а с другой - усваивает его романтическое отношение к любовной теме («Странник прошел, опираясь на посох...»). Соседство в рамках книги как смыслового единства двух тематически близких любовных стихотворений, трактующих тему в противоположных - ироничном и романтическом - модусах, несомненно, индикатор влияния Гейне. Это, конечно, не отменяет и переосмысления ряда гейновских тем («Анюте», «Улика», «Горит звезда, дрожит эфир...»). Новый этап усвоения поэтики Гейне наметился у Ходасевича в эмиграции. Помимо «Баллады», показательным в этом плане кажется стихотворение «Старик и девочка горбунья...», в поэтике которого аккумулируются характерные для немецкой поэзии темы в целом и политические стихи Гейне в частности. Вместе с тем, влияние Гейне здесь осложняется тематическим влиянием немецких экспрессионистов. Эта новая, сатирическая и социальная, линия усвоения стихов немецкого поэта не получила своего развития в творчестве Ходасевича, и в его эмигрантских стихах мы больше не обнаруживаем обращения к Гейне (за исключением второй «Баллады»), Что же касается немецких экспрессионистов, то, по-видимому Ходасевич в некоторой степени испытал влияние их поэзии, однако его нельзя признать существенным.
Статья подготовлена в ходе проведения исследования (№ 16-01-0004) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2016-2017 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
Выражаем признательность Н.П. Фаликовой за составление подстрочников из Гейне и за помощь в работе.
Список литературы В. Ф. Ходасевич и Г. Гейне. (статья вторая)
- Хитрова Д. Указатель жестов: продолжение//От слова к телу: сборник статей к 60-летию Юрия Цивьяна. М., 2010. С. 344-348.
- Успенский П. Поэтическая техника Боратынского в стихах Ходасевича//А.М.П. Памяти А.М. Пескова. М., 2013. С. 530-531.
- Bethea David M. Khodasevich: His Life and Art. Princeton, 1983. P. 109.
- Ронен И. О второй «Балладе» Владислава Ходасевича//Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 15. Wien, 1985. P. 162.
- Успенский П. «Начинаются мрачные сцены»: поэзия Н.А. Некрасова в «Европейской ночи» В.Ф. Ходасевича//Europa Orientalis. 2012. Vol. XXI. Р. 152-156.
- Müller W. Sieben und siebzig Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten. Band 2. Dessau, 1824. P. 107.
- Успенский П. «Начинаются мрачные сцены»: поэзия Н.А. Некрасова в «Европейской ночи» В.Ф. Ходасевича//Europa Orientalis. 2012. Vol. XXI. P. 157-159.
- Лекманов О.А. Ходасевич и Майринк: заметки к теме//Блоковский сборник XVI: Александр Блок и русская литература первой половины ХХ века. Тарту, 2003. С. 162-166.
- Нейштадт В. Чужая лира. Переводы из одиннадцати современных немецких поэтов. Заметки об экспрессионизме. Биографические и библиографические примечания. М.; СПб., 1923. С. 56-57.
- Heym H. Dichtungen und Schriften. Band 1. Lyrik. Hamburg, 1964. P. 220.