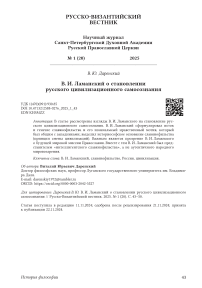В. И. Ламанский о становлении русского цивилизационного самосознания
Автор: Даренский В.Ю.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены взгляды В. И. Ламанского на становление русского цивилизационного самосознания. В. И. Ламанский сформулировал исток и генезис славянофильства и его изначальный нравственный мотив, который был общим с западниками; выделил историософское основание славянофильства (принцип смены цивилизаций). Важным является прозрение В. И. Ламанского о будущей мировой миссии Православия. Вместе с тем В. И. Ламанский был представителем «интеллигентского славянофильства», а не аутентичного народного мировоззрения.
В. и. ламанский, славянофильство, Россия, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/140309238
IDR: 140309238 | УДК: 1(470)(091):930.85 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_43
Текст научной статьи В. И. Ламанский о становлении русского цивилизационного самосознания
В наследии В. И. Ламанского, кроме концептуализации славянского «мира» как особого цивилизационного пространства, важное место занимает и анализ возможностей формирования славянского цивилизационного сознания, без которого объединение и развитие этого «мира» является невозможным. Как уже отмечалось, «мировоззрение Ламанского было славянофильским… главную славянскую задачу Ла-манский видел в „скорейшем пробуждении“ общеславянского сознания»1. В. И. Ламан-ский был славянофилом в самом буквальном смысле слова — его предметом было славянство в целом, а не только Россия как его средоточие. Изначально, как известно, само слово «славянофилы» было насмешливым прозвищем в «обществе», настроенном западнически, и лишь затем получило позитивный смысл. При этом первое поколение славянофилов — поколение Хомякова и Киреевского — было не столько славянофильским, сколько русофильским; славянство интересовало их лишь косвенно, как культурный «спутник» России. И только у В. И. Ламанского интерес перемещается именно на славянство в целом.

Владимир Иванович Ламанский. Фото Е. Л. Мрозовской, 1895 г.
Поэтому важно выделить в концепции
В. И. Ламанского специфически русский элемент из общеславянского — в первую очередь на уровне русского самосознания. Для Ламанского русское самосознание — это не только самосознание национальное, но главным образом сознание имперского народа, несущего ответственность за свою историческую миссию. Суть его концепции, по формулировке А. В. Малинова, состоит в том, что «Империя допускает раз-
личные варианты государственного устройства, поскольку в ее основе лежит идея не политическая, а религиозно-нравственная. Это христианская идея универсального царства, объединяющего народы для того, чтобы привести их к спасению. Политическое могущество империи держится не внешней силой государства, а смысловым превосходством, культурным доминированием»2. Религиозно-нравственная идея хранится в самом народе — это миссия сохранения Православия как аутентичного христианства. Но каким образом эта народная идея, которая и создала сначала Русь, а потом великую Россию, может быть выражена в форме уже светской культуры, призванной обеспечить то «смысловое превосходство» и «культурное доминирование», без которого существование России как полиэтнической великой державы имперского типа стало бы невозможным?
Это не что иное, как вопрос о развитии русского цивилизационного сознания — именно русского, а не общеславянского. У В. И. Ламанского есть размышления на эту тему в разных его работах, но в данном исследовании мы обратим внимание на две его статьи — «О распространении знаний в России» (1857) и «Россия уже тем полезна славянам, что она существует» (1876), в которых дан ряд ключевых формулировок на эту тему.
В 1857 г. при содействии Н. Г. Чернышевского, с которым В. И. Ламанский тогда еще поддерживал довольно хорошие отношения, в журнале «Современник» появляется его важная «ранняя» статья «О распространении знаний в России»3. В ней он, помимо основной ее темы — стратегии просвещения в России, также дает и свое размышление о соотношении западничества и славянофильства. Он пишет: «И те, и другие горят любовью к русской земле и исполнены веры в великую будущность, ее ожидающую; вместе с тем обе стороны равно убеждены, что Россия займет почетное место в человечестве и будет в силах начать отплату Западу в занятых у него со времен Петра сокровищах»4. Таким образом, и те, и другие имеют одну и ту же общую цель — величие России, однако пути к нему видят по-разному.
«Далее уже, — пишет В. И. Ламанский, — обе стороны совершенно расходятся: вопрос о том, западная ли образованность подчинится русскому народному началу, как началу высшему, или русское народное начало, как низшее, подчинится западной образованности; вопрос этот разрешается ими совершенно противоположно. Но те и другие свои упования в истинное его разрешение возлагают одинаково на науку и на духовные силы народа русского»5. Соответственно, «разногласие их состоит в разрешении вопроса о том, какой характер будет иметь будущее русское просвещение. Одни говорят, что характер западной образованности будет характером и нашей образованности, когда она будет. Другие утверждают, что в России образуется своя философия, которая даст другой смысл образованности западной и проникнет ее господством другого начала… Европеисты, во многом сочувствуя славянофилам…, убеждены, что такие надежды о будущем русском просвещении — суть мечтания, которые никогда не сбудутся… славянофилы, в свою очередь, убеждены, что мечтают их противники, каковые мечтания их рассеются, коль скоро они сознают односторонность западной образованности»6.
-
В. И. Ламанский справедливо оправдывает западников тем реальным обстоятельством, что они, как и славянофилы, тоже мечтают о великом будущем России как цивилизации, но беда их в том, что они не видят в ней никаких самобытных сил и уповают только на ее европеизацию. Западники, тем самым, не понимают, что основой этого величия является именно та самобытность, которая и создала Россию, а европеизация — это лишь ряд внешних заимствований, добавляющихся к этому величию, но не создающих его. Тем более странно отрицать самобытность русской цивилизации в XIX в., когда не только в сфере духовной жизни как хранительница Православия Россия оставалась «сердцем» человечества, но уже и в сфере культуры светской она стала одной из ведущих стран мира. То «русское просвещение», основанное на православных началах, о котором говорят славянофилы, — это логическое развитие русской светской культуры.
-
В. И. Ламанский также отмечает то отрадное обстоятельство, что после балканских войн, в которых Россия освобождала южных славян, даже либеральное общественное мнение в России естественным образом стало славянофильским: «Не так давно еще время, когда некоторые журналы наши любили особенно глумиться над всем, что касалось до прошедшего или настоящего мира славянского. Огромное большинство одобряло те странные остроты и нападки. Но нынче, благодаря успехам времени и науки, можно смело сказать: нет, что называется, западника, который бы в этом отношении не был бы славянофилом, то есть, переводя буквально, — славянолюбцем »7.
-
В. И. Ламанский выстраивает оригинальную генеалогию либерального и консервативного «направлений» в русской общественной мысли: «С 1815 г. приобретают у нас решительное преобладание два направления, или, в сущности, одно направление

Граф Алексей Андреевич Аракчеев. Худ. Д. Доу, 1825 г.
с двумя разветвлениями: консервативным и либеральным. По воззрению их обоих, высшее призвание и главная задача России заключалась в усвоении и охранении европейской цивилизации, как единственно вселенской и вполне общечеловеческой. Россия должна быть державой и страной настоящей, истинно европейской. Все русское, непохожее на европейское, должно быть устранено и даже уничтожено, как не европейское, а азиатское, или, по меньшей мере, византийское. Консервативная сторона… возлагала на Россию задачу охранять законный, существующий порядок в Европе, ее тишину и спокойствие. Высший оракул этого направления был Меттерних… Главным врагом этого направления был либерализм Франции, так называвшиеся тлетворные ее начала и завиральные идеи»8. Таким образом, по мнению В. И. Ламанского, и либеральное, и консервативное направления изначально были одинаково проевропей-скими, то есть западническими, а поэтому, по сути, — двумя частями одного целого.
Но следующее утверждение В. И. Ла-манского явно не соответствует действительности: «Либеральной стороне этого направления сочувствовало все лучшее образованное русское общество. К ее деятелям принадлежали все лучшие русские умы и таланты, все блестящие представители русской литературы 20, 30-х и 40-х годов. Враждебные нашим консерваторам, эти русские либералы-европейцы относились к либеральной Европе с такой же верой в ее умственную непогрешимость и нравственную высоту, с какой их консервативные противники поклонялись Европе консервативной»9. Если «образованное русское общество» и сочувствовало «либеральной стороне» (но далеко не всё), то этого никак нельзя сказать о «лучших русских умах и талантах» этой эпохи, таких как Пушкин, Гоголь, Тютчев и др., которые были убежденными монархистами и защитниками «русских начал».
Столь же ложным, а кроме того и безнравственным, является и следующее утверждение В. И. Ламанского: «Были у нас еще особого рода консерваторы, подобные Фотиям и Аракчеевым. Но то были не люди партии, а всплывавшие вверх осадки всей той дикости, грубости и порочности, которая имелась в тогдашней России… И консерваторы, считающие нужным прибегать к такого рода случайным помощникам, наносят всегда смертельные удары своим же консервативным началам»10.
На самом же деле упомянутые архим. Фотий (Спасский) и граф А. А. Аракчеев были людьми выдающимися и высоко образованными, имеющими великие заслуги перед Россией. Они вдвоем совершили настоящий подвиг, убедив Александра I решительно остановить распространение антиправославного мистицизма в высших кругах Империи11. А. А. Аракчеев был выдающимся реформатором и создателем той армии, которая победила Наполеона. Как отмечает А. Ю. Минаков, «первоначально

Архимандрит Фотий (Спасский). Худ. Д. Доу, 1820-е гг.
Аракчеев был противником создания военных поселений, но затем подчинился воле государя… Одновременно с созданием военных поселений Аракчеев разработал по поручению царя в 1818 г. проект освобождения крестьян. Согласно этому проекту крепостные крестьяне и дворовые люди с согласия помещиков постепенно выкупались казной. Кроме того, государство должно было выкупать по две десятины пахотной земли на каждую ревизскую душу»12. Как видим, граф А. А. Аракчеев создал оптимальный проект освобождения — намного лучше того, который был реализован впоследствии. В свою очередь, архим. Фотий (Спасский) был выдающимся православным мыслителем, деятелем, боровшимся с масонством, и самым первым предсказавшим его катастрофическую роль в истории России (см., в частности, его статью «План разорения России и способ оный план вдруг уничтожить тихо и счастливо»13).
Почему же В. И. Ламанский высказывает столь оскорбительное и невежественное мнение об этих выдающихся людях? Очевидно, он был в «плену» общего мнения интеллигенции, создавшей свои мифы о тех людях, которые были радикальными консерваторами. Интеллигенция всегда имела свою мифологию, подобную сектантской, — она демонизировала людей, защищавших государство и Церковь. В. И. Ла-манский был представителем интеллигентского славянофильства, сочетавшего в себе как народное православное мировоззрение, так и светские мифы.
Однако тем более велика его заслуга в том, что он стал искренним защитником Православия и славянства. Он писал: «При господстве в русском обществе такого европейского направления с его двумя разветвлениями, восточнохристианская миссия и славянские задачи России естественно должны были отойти на самый задний план и даже были совершенно отвергаемы. Вся Европа, и консервативная, и либеральная, была согласна в том, что восточные христиане и славяне, как низшие грубые расы и как исповедники искаженного Византией и схизмой христианства, должны быть содержимы в черном теле и в ежовых рукавицах»14. Соответственно, и в призывах к защите славянства «консерваторы и либералы одинаково видели… недостойный бунт и мятеж против цивилизации»15. Однако, как пишет В. И. Ламанский, «это воззрение на подчиненную, служебную роль России было умственно несостоятельно, внутренне бессильно. Только самобытные, оригинальные идеи всецело могут покорять себе людей. Это же направление решительно противоречило всем лучшим преданиям русской истории, всем духовным идеалам русского народа… наши европейцы, как консерваторы, так и либералы, по счастью для России, никогда до конца не могли выдержать своей верноподданности Европе»16. Это рассуждение весьма важно, т. к.
оно показывает исторический контекст, а также нравственный и психологический аспект возникновения славянофильских идей.
Само это возникновение Ламанский описывает так: «А тут еще в 30-х, в начале 40-х годов начала понемногу выделяться из среды русского образованного общества небольшая группа людей с такими высокообразованными и даровитыми представителями, как Хомяков, братья Киреевские и Аксаков. Они начинают обличать недостатки и пороки русской новейшей образованности, ее внутреннюю несамостоятельность… Признавая все величие новейшей европейской цивилизации и все громадные заслуги романо-германской Европы в науке, искусствах и в общежитии, наши, так названные славянофилы, утверждали, однако, что эта цивилизация не есть всецело общечеловеческая и единственно возможная, что, напротив, новейшее ее развитие не отстраняет, а даже вызывает необходимость появления иной, новой, высшей культуры и цивилизации. Они говорили, что эта европейская цивилизация на многие высшие запросы и требования человеческого духа, на важные нужды целых народных масс не дает и не в силах дать удовлетворительных ответов»17.
В. И. Ламанский концентрированно формулирует основное «ядро» славянофильского учения, акцентируя его важный историософский аспект: «Вы напрасно пугаетесь, — говорили славянофилы нашим европейцам, — что мы упрекаем европейскую цивилизацию в известной односторонности и исключительности. Все мировые когда-либо бывавшие цивилизации всегда страдали некоторой исключительностью и односторонностью… Древний Рим точно так же во многом походил на Грецию, однако его цивилизация была иная, чем греческая… романо-германская цивилизация очень разнится и от древнегреческой, и древнеримской. Точно так же должна разниться от европейской и наша грядущая цивилизация»18. Сама мысль о возникновении новых цивилизаций для «русских европейцев» была непонятной и даже шокирующей.
Особое прозрение и заслуга В. И. Ламанского состоит в понимании будущей миссии Православия как хранителя аутентичной христианской традиции в современном мире: «Христианство, так узко и ограниченно понимаемое в католицизме и протестантстве, уже умирает и хоронится в Европе. Но внутреннее содержание христианства далеко еще не исчерпано и не осуществлено на земле. Восточный отдел христианского мира еще не сказал, подобно западному, своего последнего слова в постижении и осуществлении христианских идеалов любви, братства и свободы»19. Это прозрение В. И. Ламанского сбылось и сбывается в XX и XXI вв.
О роли славянофилов в истории русской мысли и русского общества В. И. Ламан-ский сделал следующий вывод: «Долгое время, частью и поныне, в наших образованных кружках… они считались и считаются людьми вредными, дающими ложное направление русской жизни. Тем не менее с самого появления своего до настоящей минуты они имели и имеют как видимое и признаваемое, так и скрытое, но одинаково сильное влияние и на все новейшие многочисленные разветвления старого консервативного и либерального нашего европейского направления»20. Поэтому, пишет он, благодаря славянофилам «как бы то ни было, но новейшая вера в служебную и подчиненную европейским целям миссию России была совершенно расшатана и потрясена в сознании русского образованного общества»21.
Подводя итог краткому анализу данной темы, можно сделать основные обобщающие выводы. В. И. Ламанский сформулировал исток и генезис славянофильства и его изначальный нравственный мотив, который был общим с западниками; выделил историософское основание славянофильства (принцип смены цивилизаций). Важным является прозрение В. И. Ламанского о будущей мировой миссии Православия. Вместе с тем В. И. Ламанский был представителем «интеллигентского славянофильства», а не аутентичного народного мировоззрения. Этим объясняется и акцент его концепции на славянстве как целом, а не на России, — и в этом можно усматривать своего рода «превращенную форму» русского западничества.
Список литературы В. И. Ламанский о становлении русского цивилизационного самосознания
- Климаков Ю. В. Предисловие // Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 5-27.
- Ламанский В. И. О распространении знаний в России // Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 742-791.
- Ламанский В. И. Россия уже тем полезна славянам, что она существует (посвящается И. С. Аксакову) // Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 432-462.
- Малинов А. В. "Римская идея" в цивилизационной концепции В. И. Ламанского // Вопросы философии. 2023. № 2. С. 155-166. EDN: NTJIRY
- Минаков А. Ю. А. А. Аракчеев - лидер консервативной "русской партии" в 1820-е гг. // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2013. № 4 (25). С. 5-17. EDN: RBNUIZ
- Прокудин Б. А. Историософские и геополитические идеи В. И. Ламанского // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2013. № 2. С. 117-127. EDN: QAVHCX
- Фотий (Спасский), архим. Борьба за веру. Против масонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 400 с.