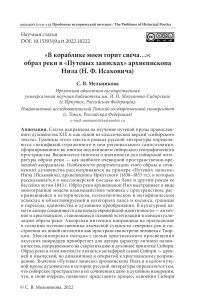«В кораблике моем горит свеча...»: образ реки в «Путевых записках» архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича)
Автор: Мельникова Софья Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья направлена на изучение путевой прозы православного духовенства XIX в. как одной из классических версий «сибирского текста». Границы этого текста в рамках русской литературы определяются спецификой отраженного в нем регионального самосознания, сформированного во многом под влиянием сибирского географического пространства. Выдвигается гипотеза о значимости для сибирской литературы образа реки - как наиболее очевидной пространственно-временной координаты. Особенности репрезентации этого образа в сочинениях духовенства рассматриваются на примере «Путевых записок» Нила (Исаковича), архиепископа Иркутского (1838-1853 гг.), в которых рассказывается о миссионерской поездке по Лене и другим рекам ее бассейна летом 1843 г. Образ реки архиепископ Нил выстраивает в виде многогранной модели взаимодействия человека с пространством, раскрывающейся в историческом, психологическом и метафизическом аспектах и объективируемой в категориях хаоса и космоса, границы и перехода, одиночества и духовного преображения. В культурной памяти автора соединяются два начала европейской идентичности - античное и христианское, становящиеся основой эстетизации и концептуализации образа реки. Авторская интенция направлена на преодоление в сознании путешественника языческой сущности северных рек и построения их новой онтологии как пространства встречи человека с Творцом. Миссионерская поездка с целью христианского просвещения якутских инородцев приобретает для автора характер личного паломничества, направленного на сакрализацию и духовное принятие Сибири. Образ реки в этом контексте является метафорой самой Сибири - древней и языческой, но динамичной и открытой к христианскому возрождению. Значение «Путевых записок» архиепископа Нила и в целом путевой прозы духовенства в истории русской литературы определяется тем, что сибирское пространство в их сочинениях дано в духовном измерении, что, в свою очередь, позволяет представить процесс освоения Сибири в его онтологической и аксиологической сущности - как инкорпорацию в российское национальное самосознание, христианское в своей основе.
Сибирский текст, геопоэтика, архиепископ нил (исакович), образ реки, церковная словесность, язычество, античность, христианство, путевая проза
Короткий адрес: https://sciup.org/147236191
IDR: 147236191 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10222
Текст научной статьи «В кораблике моем горит свеча...»: образ реки в «Путевых записках» архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича)
Р ека — древний архетипический образ, значимый для большинства культур мира. В христианстве он наделяется сакральностью, связанной с представлением о священных водах Иордана и Таинством Крещения — в символическом плане река трактуется как источник жизни и преображения, место встречи человека с Богом. В русской культуре, помимо религиозных смыслов, река воплощает структурообразующее для национального самосознания представление о горизонтальности и широте российского пространства и потому является «одним из важнейших онтологических топосов» отечественной литературы [Захарова: 5], что подтверждается великими литературными образами Днепра, Волги, Дона, Невы.
Особое значение реки имеют для Сибири. «Большие воды» Енисея, Лены, Амура издревле являлись сугубо почитаемыми сакральными объектами в языческой культуре коренных народов, с ними была связана обширная мифология и развитая обрядовость.
В XVI в. началось освоение Сибири русскими. Инкорпорация этой территории в Российскую государственность происходила не только на уровне политики и экономики, но и национального самосознания, что предполагало ее новую мифологизацию и сакрализацию, но уже в рамках российской истории, государственности и православной культуры. И реки, как наиболее очевидные и устойчивые координаты для концептуализации пространства, определившие основные векторы колонизации, могли играть в этом процессе стратегическую роль, что, в свою очередь, должно было отразиться в региональной словесности.
Данная гипотеза прекрасно коррелирует с общими представлениями о «сибирском тексте» как новом «локальном тексте культуры» [Абашев: 5, 12], особенности которого, отличающие его от других локальных текстов, определяются региональным самосознанием сибиряков [Анисимов], [Богумил], [Замятин, 2010], [Казаркин], [Макарова], [Тюпа] и, прежде всего, присущей этому самосознанию «хронотопичностью»: «Осмысление пространственных границ Сибири, ее природы, топосных моделей органично входило в тот комплекс идей, которые можно определить как региональное самосознание» [Янушкевич: 227].
Тема сибирских рек затрагивается в современном литературоведении, однако раскрывается она на примере ограниченного круга сочинений XX в.: романа «Угрюм-река» В. Я. Шишкова [Худенко], а также произведений В. Г. Распутина и В. П. Астафьева.
На наш взгляд, круг источников для ее изучения может быть существенно расширен за счет литературы XIX в., и прежде всего мемуаров и путевых заметок сибиряков. Так, образ реки Лены может быть исследован на материале «Поездки в Якутск» чиновника Н. С. Щукина, путевых записок адмирала барона Ф. П. Врангеля, воспоминании Б. В. Струве, от рывков из «Фр егата ‘‘Паллада’’» И. А. Гончарова и др.1
Отдельную группу среди подобных текстов могли бы составить сочинения православного духовенства. Помимо вынесенных в название настоящей статьи «Путевых записок» высокопреосвященного Нила (Н. Ф. Исаковича), архиепископа Иркутского и Нерчинского2, образ Лены и других северных рек представлен в «Путешествии по Лене» преосвященного Иакова (И. П. Домского), епископа Якутского и Вилюйского, в дневниках священников Г. Попова и Н. А. Пономарева, протоиерея Ф. А. Стукова и еще ряде текстов — миссионерских путевых журналах, отчетах о владычных обозрениях епархий, дневниках, которые в совокупности можно определить как путевую прозу3. Корпус этих источников, как и других мемуаров духовенства, достаточно обширен4, однако основная масса из них только ожидает своего научного изучения.
Взгляд на Сибирь, и в частности на сибирские реки, православных священников и миссионеров интересен по нескольким причинам. Во-первых, они были прекрасными знатоками этой территории — и их записки, составленные во время длительных миссионерских поездок в самые удаленные уголки Сибири, содержат ценный, а порою и уникальный исторический и научный материал. Во-вторых, как люди в большинстве своем образованные, знакомые с лучшими образцами мировой культуры, а также склонные к рефлексии и самоанализу, они могли создавать достаточно сложные образы сибирского времени и пространства, значимые, в том числе, в эстетическом плане. На наш взгляд, именно сочинения духовенства формировали в отношении Сибири то, что в современном литературоведении принято называть геопоэтической образностью. Наконец, и это главное, духовные лица могли представить сибирское пространство в особом, не характерном для других авторов, духовном измерении, раскрывающим его новую онтологию и аксиологию как части России. Таким образом, именно в их сочинениях мог наиболее точно отразиться процесс инкорпорации Сибири в российское национальное самосознание, христианское в своей основе.
Исходя из этих тезисов, путевая проза сибирского духовенства, и в частности создаваемый в ней образ сибирских рек, может рассматриваться в контексте двух актуальных направлений современного литературоведения — геопоэтики (об историографии вопроса см.: [Александрова-Осокина]) и этнопоэтики, в понимании этого термина, предложенном В. Н. Захаровым [Захаров]. Раскрыть же ее идейно-эстетический потенциал как одной из классических версий «сибирского текста» мы попытаемся на примере «Путевых записок» архиепископа Нила (Исаковича) — одного из несомненных, на наш взгляд , шедевров сибирской словесности XIX в.
Высокопреосвященный Нил управлял Иркутской епархией с 1838 по 1853 гг. За это время он совершил большое количество поездок по вверенной ему обширной территории, во время которых вел дневниковые записи. Позже эти записи и составили его «Путевые записки». Записки посвящены Восточной Сибири, однако опубликованы они были уже за ее пределами, в Ярославле, куда Нил переехал в 1854 г., будучи назначен архиепископом Ярославским и Ростовским. В 1869–1871 гг. они выходили частями в «Ярославских епархиальных ведомостях», в 1874 г. появилось отдельное издание. В 2018 г. автором настоящей статьи было подготовлено современное научное переиздание «Путевых записок»5.
Книга «Путевые записки» включает три части: «От Вятки до Иркутска», «Путешествие в Якутский край» и «От Иркутска до Якутска». В первой рассказывается о путешествии преосвященного Нила, только что назначенного на Иркутскую кафедру, из Вятки в Иркутск по Московско-Сибирскому тракту летом 1838 г. В двух других повествуется о поездке Нила, архиепископа Иркутского и Нерчинского, летом 1843 г. по Лене от Качуга до Якутска и обратно с целью обозрения епархии и миссионерской проповеди.
Временная дистанция между публикацией текста и описанными в нем событиями составила более четверти века. Черновики и писарские копии записок и дневников, которые владыка вел в дороге6, сохранились в составе его личного собрания в Ярославском архиве7. Их сравнение с опубликованным текстом позволяет сделать вывод, что записи дополнялись и проходили литературное редактирование8.
Содержание «Путевых записок» архиепископа Нила в целом типично для владычных отчетов по обозрению епархии как одного из видов церковной документации. Владыка описывает населенные пункты и храмы, лежащие у него на пути, дает характеристику священникам и миссионерам, обращает внимание на верования, быт и нравы инородческого населения — бурят и якутов, сообщает о совершенных им Литургиях, а также о катехизаторских беседах. На основе ревизии якутского консисторского архива владыка составляет описание Спасского монастыря и всех якутских церквей.
Однако, как и многие другие духовные авторы, высокопреосвященный Нил выходит за рамки отчета и наполняет свой текст описаниями северной природы и обстоятельств путешествия, научными наблюдениями, рассуждениями, лирикомедитативными моментами. Очевидно, что по рукописям дорожных дневников Нил восстанавливал детали и обстоятельства своих путешествий; по памяти же воссоздавал собственный образ как путешественника, а также образ времени и пространства, что и позволяет определить «Путевые записки» как сочинение мемуарное. Владыка — талантливый писатель9, и его «Путевые записки», что мы доказываем в ряде статей [Мельникова, 2013, 2015, 2018] могут рассматриваться и как литературное произведение. Основанием к тому служат прекрасный литературный язык и сложная структура повествования, наличие внутреннего сюжета и системы мотивов, собственная символика, целостный образ автора.
Высокопреосвященный Нил, как художник, мыслит образами, одним из центральных среди которых и является образ реки — как формы освоения и истолкования мира, отражающий общее в единичном, наделенный полнотой и целостностью смысла и силой эстетического воздействия.
Река в «Путевых записках» — это, прежде всего, «великая», как ее определяет сам автор, Лена. Но на маршруте владыки также лежат и многочисленные ее притоки и другие небольшие речки, всего в тексте называется более 20 подобных объектов10. При этом каждая из рек удостаивается не просто упоминания, но описания, иногда развернутого — «картины», «панорамы» или «ландшафта». Эти описания становятся основными структурными элементами повествования, существенно превышающими по своему объему собственно рассказ о событиях.
Начало маршрута — от Иркутска до Качуги — пролегает, однако, по суше. Местность в основном степная, населенная бурятами. Нил определяет ее как «унылую» и «однообразную». И это не просто настроение: степное пространство чуждо автору в генетическом и культурном плане. Ощущение отчужденности усиливается, когда владыка сталкивается в степи с шаманским хуралом и шаманкой-«фурией». Тем контрастнее выглядит чувство, с которым он описывает встречающиеся ему на пути небольшие речки — они единственное, что оживляет, разнообразит и делает приятной для взгляда путешественника степную картину:
«Лучшее украшение Кудинской долины есть река Куда. Ею все здесь разнообразится и живится»11;
«Жердовская стоит в ложбине одиноко и печально. Ее живит лишь ключ чистой воды, вытекающий из пригорка» (59);
«…гряда холмов рисует хороший ландшафт. Но несравненно лучшим становится он с появлением Ордынки. Причудливые извороты ее течения и изменчивость прибрежий, оживляемых летними кочевьями и стадами, дают много приятных впечатлений» (60).
Протекающие по степи речки, по сути своей, мало примечательны, однако высокопреосвященный Нил, как талантливый художник и мыслитель, буквально преображает их под своим пером:
«Кущи, рассеянные по берегам Манзурки, напоминая собою библейские времена, дают много пищи не воображению только, но и чувству. Ученый мир Европы знает селения идумейские и шатры кидарские, но знает по письмени и гаданию. Почему же не приглядеться на натуру, доколе время не стерло старины с лица земли? Манзурка, извиваясь между кустарниками и лугами, рисует богатую картину, особенно при подъеме на гору, опоясывающую долину. Путешественник, остановившись на вершине горы, увидит богатый ландшафт. Речка своими извилинами, долина зеленью и цветами, дальние окрестности разнообразием невольно влекут к себе взор и внимание. А если наблюдатель геолог, то и горные породы могут занять его с приятностью <…>. Странник, полюбуйся этою местностью!» (65).
Достойным внимания в этом описании нам представляется, прежде всего, широта культурного контекста, в который владыка Нил вписывает речку Манзурку. Она дает ему повод вспомнить о библейских временах (райские кущи, упоминаемые в Библии идумеи и кидарцы) и обратиться к европейским ученым с призывом изучать не только библейских, но и современных номадов. Сам же автор в этом описании предстает и как ученый, наблюдающий и анализирующий, и как сентиментальный путешественник, склонный к созерцанию и эмоционально-эстетическому восприятию природы.
Картина создается как живописное полотно — динамичное (река описывается с разных пространственно-временных точек зрения) и диалогичное: читатель вовлекается в процесс созерцания, становящегося основой со-бытия: он, как и автор, странник. Главное же в этом полотне — импрессионистский по своей сути образ движения, соприродный самой реке, воплощенный в ней буквально. Изображение небольших степных речек, приятных для глаза, живописных и соразмерных человеку — тонко чувствующему и умеющему наслаждаться природой страннику, отсылает нас к эстетике сентиментализма.
Однако настроение изменяется по мере продвижения на север — природа с каждым шагом становится «угрюмее», «суровее» и «грандиознее». Путешественники вступают в область Лены и Витима — великих северных рек, которые уже не веселят, но восхищают, вдохновляют, а иногда подавляют и пугают. С их изображением в текст входит категория возвышенного:
«Щеки начинаются с девятой версты от станции и тянутся, как говорят, на три версты <…>. Некоторые из утесов очень высоки. Плывущие у подножия их суда кажутся щепками <…>. Пловец тут видит пред собою на каждом уклоне три стены — боковые и встречную. И эти встречи, при большой воде, ужас наводят на судовщиков <…> непривычному пловцу нелегко сохранить присутствие духа <…> он видит и сознается, что он атом пред громадою, пылинка пред горою» (106–107);
«Ландшафт, представляющийся со стороны Витимска, исполнен величия и разнообразия. Чело гор поднимается к облакам, с вариациями отражений, едва ли доступных даже для пылкого воображенья. А самое устье Витима, можно сказать, ненаглядно по дивному сочетанию грозного с приятным и по неумолкающему шуму вод, как бы взаимно ратующих и не хотящих уступить места друг другу» (114–115);
«На протяжении сем Лена изумляет величием своим. Берега ее тонут в туманной дали, а самое ложе морем глядит» (151).
Величие создаваемого образа природы поддерживается высоким стилем: «исполнен», «чело», «вариации», «воображенье», «дивный», «ратующих», «смиренный», «ложе».
Возвышенное — в данном случае изображение стихии и взаимодействия с ней человека — одна из основных категорий предромантизма и романтизма. Таким образом, в тексте архиепископа соединяются черты сентиментального и романтического, что в целом соответствует жанрово-стилевым тенденциям в русской литературе первой трети XIX в. Данное наблюдение может быть поводом, в частности, для сопоставления «Путевых записок» с сочинениями Н. М. Карамзина.
Творчество архиепископа Нила характеризует интерес к античности: обилие отсылок к античной литературе и мифологии — черта его текстов, которая не может остаться незамеченной:
«Самые воды в местах сих в странном и нимало не утешном виде. Ибо облегающие их скалы, бросая на них густую тень, обращают в мрачные воды Стикса: подобную же физиономию дают и речному руслу, отзывающемуся, особенно в ночное время, циклопическою пещерою. И мне кажется, тот не погрешит, кто, преплываючи каверны сии, скажет: «Stygiasque ultra quaerimus umbras» (107);
«При дожде, громе и буре, местность эта казалась Сциллою и Харибдою, а зияющее среди скал устье, без всякого преувеличения можно бы назвать пещерою Эола» (116);
«Между Нюйским и Жербинским впадает, с левой стороны, в Лену большая река Нюя <…>. Берега кое-где заселены якутскими кочевьями. Но русские мало знают и редко посещают этот Ахерон» (122);
«Будь на месте сем певец древней Эллады, он в нашей мрачной, шумливой реке, верно, нашел бы Стикс новый или же новую Лету, так созвучную с именем Лены» (122);
«…по мере движения нашего вперед, горный ландшафт развертывается <…> принимает новые и новые формы и <…> волшебною метаморфоз своих силою влечет нас в мире фантазии, к эпохе <…> самого Зевса: Affectasse ferunt regnum coeleste gigantes Altaque congestos struxisse ad sibera montes: Tum Pater omnipotens misso perfregit Olympum Fulmine… (Ovid. Metam. Lib. 1)» (148) и т. п.
Прекрасное владение латынью и знание античной литературы и мифологии — это, безусловно, результат обучения Нила в Могилевской семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии. Однако его интерес к античности, на наш взгляд, преимущественно не академический, а поэтический — не столько индивидуальная черта стиля, сколько отражение общего культурного фона эпохи, которую принято называть «пушкинской». Немаловажно, что Нил был «абсолютным» современником великого поэта. Они родились в один год, и все то время, которое будущий иркутский архиепископ провел в центре России, совпало с годами жизни Пушкина. Объединяют их и любимые античные поэты — римляне Гораций и Овидий, а вот к античной мифологии оба автора обращаются чаще, напротив, в ее греческом варианте.
Мифологические образы формируют символический подтекст «Путевых записок» Нила, который, однако, легко расшифровывается. Устойчивым сравнением, как можно видеть из приведенных выше цитат, является сопоставление северных рек с тремя из пяти рек подземного царства Аида — Летой, Стиксом и Ахероном. Это сравнение, безусловно, связано с традиционным представлением об инфернальности сибирского хронотопа:
«…это узкая, мрачная расселина, дышащая хладом. И ежели обитатели старой Эллады реку Эпирскую, за мутность вод и за скуку окрестностей ее, могли назвать Ахероном — рекою скорби, то мы с правом, вдесятеро большим, Столбовку свою можем назвать рекою скорби» (148).
Однако в сочинении высокопреосвященного Нила мы видим и тенденцию к преодолению этой инфернальности:
«…пришли мне на мысль герои древней Эллады, боровшиеся со Стиксом и Ахероном и никогда не терявшие надежды на помощь вышних сил. Подобная надежда и в мою душу тем более вселялась, чем более вера наша дает нам силы и права сказать с уверенностью на помощь Всевышнего: Eripe me his, Invicte, malis!» (221).
Себя и своих спутников владыка неоднократно сравнивает с аргонавтами — и это сравнение дает повод для противопоставления с коренными сибиряками:
«Сибиряки, умудренные опытами, опасность эту (полноводных рек. — С. М. ) вполне сознают. А мы, ровно аргонавты, плывем-плывем, не видя никого ни пред собою, ни за собою» (137).
Аргонавты — это маркер определенной культурной традиции, следовательно, они чужие в суровом якутском пространстве, в связи с чем и возникает мотив слепоты — «не видя никого ни пред собою, ни за собою». Однако это «невидение» можно трактовать и как отсутствие страха и окрыленность целью. Если разворачивать ассоциативный ряд, то миссионерская поездка может быть интерпретирована как инвариант сюжета о поисках золотого руна, что окружает ее особым мифопоэтическим ореолом и сулит благополучный исход.
Но обращение к мифологии, что особенно для нас важно, объясняется не только личной образованностью владыки Нила и общим культурным контекстом эпохи. Оно продиктовано самой Леной — она и реки ее бассейна со всей очевидностью ощущаются автором как пространство мифопоэтическое, а, следовательно, нуждающееся для своего описания в языке мифа. Как уже говорилось во введении к настоящей статье, реки играли большую роль в мифах северных народов. Однако эта мифология чужда православному владыке (несмотря на весь его интерес, например, к буддизму), поэтому-то, на наш взгляд, он и избирает более органичный и знакомый для себя античный вариант мифа. Древняя и языческая водная стихия, будучи описанной на языке античных авторов, как будто бы укрощается, становится более понятной, возможно, не такой пугающей и вписывается в контекст европейской культуры, берущей свое начало в античности.
Важнейшие мифопоэтические категории в интерпретации этой стихии — хаос, космос и граница, или переход.
«Проводя ночь на смиренном кораблике своем, не смыкал я глаз. Мысли приходили и уходили, мелькали как метеор. Но все они, под влиянием ли ночного мрака, или непрестающего здесь стихийного борения, склонялись к одной и притом почти безотчетной. Мне казалось, что я думал думою Овидия Назона, когда, изображая первобытный хаос, высказывался он: Во всем тогдашнем мире
Природа вид один имела
Вид массы грубой и нестройной
Да семена существ
Бессвязные, недружные» (114).
Хаос присутствует не только в метафизическом, но и вполне реальном плане. Он объективирован в многочисленных образах неустроенности Сибири, нерационального использования ее ресурсов, а также часто бедственного положения населяющих ее народов, особенно из числа инородцев. В записках изображаются картины эпидемий и голода среди живущих на берегах реки якутов, который настолько страшен, что вынуждает их питаться сосновой корой, что, в свою очередь, приводит к экологическому бедствию — истреблению сибирской тайги. И потому, хотя сибирская природа — это «великан», но «сам человек, витающий здесь среди терния и волчцев, носит образ тени, готовой явиться к Харону не сегодня, так завтра» (157).
Однако метафизический хаос может и должен быть преодолен, и на его месте должен возникнуть устроенный космос. Владыка верит в возможность просвещения и деятельного преобразования края, в основе которого лежит его научное изучение. Ученый-исследователь — еще одна ипостась, в которой Нил предстает на страницах своих записок. Интересуют его преимущественно вопросы геологии12. Рассматривая геологические слои и напластования, автор раздвигает время описания на миллионы и миллиарды лет, создавая древний и величественный образ Лены и других северных рек:
«Обширные страны сии способны поспорить с древнею Колхидою, и давно ждут второго Язона, чтобы наделить его золотым руном» (224).
Для автора органична идея прогресса, сформулированная европейскими просветителями, как восходящего движения в истории, следовательно, и противопоставление современности, как эры разума и цивилизации, прошлому человечества.
Нил постоянно находится в состоянии внутреннего диалога. Его собеседники — поэты и философы прошлого. Обращение к ним позволяет автору раздвигать границы видимого мира и выходить на новые уровни его понимания и интерпретации:
«…Каковы же в эту пору ощущения? Думаю, они не далеки от тех, которые водили пером Юнга, когда писал он ночи свои; или же от тех, воодушевленный которыми Овидий сказал о человеке: Mente Deos adiit, et quare natura negavit
Visibus humanis, oculis ea pectoris hausit
Он к Богу мыслию восходит,
А сердцем ощущает,
Чего не досязает
Очей его взор бренный» (85–86).
Очевидно, что мысль, объединяющая для архиепископа в едином воспоминании творчество поэтов разных эпох — сентименталиста Эдварда Юнга, автора знаменитых «Ночных размышлений о жизни, смерти и бессмертии», и античного поэта Овидия, автора не менее знаменитых «Метаморфоз», — это мысль о двойственности человеческой природы («Червь? Бог?») и о бренности человеческого бытия, его мимолетности, по сравнению с вечностью. Юнг может быть близок Нилу и как пастор, образом же Овидия задается архетип поэта, странника и изгнанника, с которым автор путевых записок отождествляет себя в хронотопе судьбы. Юнг и Овидий — это также маркеры памяти, однако уже не личной, но культурной памяти автора-мемуариста.
Но подлинную основу духовного бытия архиепископа составляет постоянное обращение к Творцу, волю и присутствие которого он видит во всех деталях и чертах окружающего мира.
«Полночь. Стоим у Туруцкой деревни. На берегу под утесом пылает костер. Одни греются, другие хлопочут о скорейшем приготовлении ужина. Но из пустыни великой, из лесов дремучих голоса живого до нас не доходит. Катится лишь луна над нашей головой. А гор густая тень у ног ложась, будто говорит нам: Erectos ad sidera tollete vultus — в мир звездный взор свой устремляйте (Ovid. in Metamorp)» (85).
Спутники его греются у костра, освещенные его рукотворным светом и хлопочущие об ужине. Сам же владыка наблюдает за ними со стороны. Он слышит иные звуки и освещен иным светом — светом звезд. Образ реки дополняется образом неба, «мира звездного». Сфера замыкается, создавая тем самым завершенную и совершенную картину универсума, проникнутого волей и величием Творца. В этой картине присутствует еще один источник света:
«В кораблике моем горит свеча; на столе лист бумаги, готовый к принятию ощущений моих…» (85).
Свеча — это символ молитвенного горения человека-христианина перед Богом. «Кораблик» противопоставлен общему костру как уединенная обитель, почти келья, в авторской же памяти он становится метафорой самой жизни, плывущей по реке времени:
«Благодаря Господу, у меня достало сил и терпения прободрствовать ночь, стоя как на стражбе. А спутники мирно почивали. И это радовало меня. С рассветом туман начал редеть, а вместе с тем окрестные предметы стали проявляться один за другим. И я пристально смотрел на все, до чего око достигало, и наконец, от души сказал: “О, как прекрасен Божий мир! ‥ ”» (71).
Удел спутников владыки — отдых и мирный сон. Его собственный удел — усилие и душевное бодрствование. Но за это он вознаграждается тем, что остается неведомым для остальных: через спадающий с мира туман он созерцает его Божественную красоту и величие в чуде рождения жизни.
Как человек тонко мыслящий и чувствующий, Нил обладает высокой способностью к «открытию онтологических возможностей мест» [Замятин, 2015: 74]; как христианин онтологию пространства он связывает с божественным в нем присутствием и сакральностью.
При этом владыка движется не по изначально сакральным, освященным и до него местам, а, напротив, по дикой, языческой реке. По сути, он сам освящает своим появлением Лену: архиерейские Богослужения в убогих деревнях и улусах, годами не видящих священника, должны были остаться в памяти их жителей как одни из самых сильных религиозных переживаний.
Само течение и отсчет времени для архиепископа Нила определяется не гражданским, но прежде всего, православным церковным календарем, лежащим в основе сакрального хронотопа «Путевых записок». В этой связи особенно символичной выглядит дата завершения сухопутного и начала водного пути:
«Июня 6-го, прослушав Божественную литургию и отслужив молебен, в 10-м часу утра взошли мы на суда» (68).
Это День Всех Святых, который празднуется в Православии через неделю после Троицы, и посвящается воспоминанию о « всех святых, по всему миру пострадавших » (Св. Иоанн Златоуст) и их прославлению. Сразу после этого Дня наступает Петров, или Апостольский пост. И уповая на заступничество Святых и памятуя их духовные подвиги, владыка Нил в этот святой день вместе со своими спутниками готовятся к испытаниям, которые ждут их на апостольском по сути своей пути.
На время путешествия приходится и Успенский пост. Особую духовную радость владыке удается принести в селение Витимское, где он служит Божественную Литургию:
«…это было накануне Успенья Пресвятой Богородицы. А потому имел я полную возможность прослушать всенощное бдение, а в самый праздник (15 авг.) совершить Божественную литургию. Случай этот, самим Небом уготованный, сколько меня радовал, столько и обывателей, с их ближними и дальними соседями» (225).
Завершается же поездка 6 сентября, в Иркутске, за день до еще одного великого православного праздника — Рождества Пресвятой Богородицы.
Цель миссионерского путешествия Нила — духовное просвещение Ленских берегов. Но его личная цель — их духовное принятие. Энергия и пафос «Путевых записок» заключается в том, что, погружаясь в это пространство, автор сознательно преодолевает его хтоническую природу и формирует новый геопоэтический образ, исходя из собственных религиозных, нравственных и эстетических установок. И этот образ подобен храму — в нем отчетливо ощущается присутствие Творца. Следовательно, применительно к путевым запискам Нила можно говорить об иеротопии, понимаемой как практика человека в «создании сакральных пространств», формирующих для него самого среду общения с высшим, духовным миром [Лидов: 11].
Сакрализация пространства является основным признаком особого вида путешествия — христианского паломничества, поскольку без сакрализирующего взгляда «простое физическое прибытие в определенную топографическую точку, символизирующую сакральное место, означает явную неудачу паломничества, его религиозную несостоятельность» [Замятин, 2015: 70].
Высокопреосвященный Нил утверждает необходимость христианского просвещения и преображения Сибири:
«…пора номадам нашим начать исход, как из некоего Египта, из облежащего их мрака и идти во след народов, а паче Православной Руси, к нравственному, умственному и материальному преспеянию» (320).
Этот процесс имеет своей сутью преобразование времени-пространства — включения его в контекст христианской истории и памяти, и, что особенно важно, изменение ощущения времени у самих населяющих эти берега народов: его обогащение литургическим переживанием.
Финальные строки произведения свидетельствуют о завершенном процессе принятия автором этого изначально чуждого для него пространства:
«Не могу не сознаться, что, оставляя Якутскую область, чувствовал я непонятную для меня самого грусть. Не заключалась ли таинственная причина в безмерности ее пространства. Ибо известно, что все абсолютно великое, начиная от мира звездного до океана и пустынь Ливийских, безотчетно влечет к себе взор и внимание человека и никогда собой не наскучивает» (218).
Очевидно, что безмерность здесь характеристика не только и не столько географическая, но онтологическая. Прежде всего, это безмерность божественного замысла о мире и о человеке, безмерность созданного им космоса, которую владыка ощутил, странствуя по великим северным рекам и которую ему, благодаря писательскому дару, вполне удалось осмыслить и отразить в своих мемуарах.
Созданный в «Путевых записках» архиепископом Нилом образ реки, или водного пути, имеет не только поэтическое, но и метафизическое значение и формирует сложную картину мира. Нил является носителем разных типов памяти — личной и культурной, в которой органично соединяются два основных начала европейской идентичности, античное и христианское. Именно это объемное культурное сознание позволяет ему осмыслить образ реки в универсальных категориях хаоса и космоса, объективируемых как в метафизическом, так и реально-историческом плане. Свойственное же для христианина литургическое переживание времени и пространства становится основой для интерпретации путешествия как встречи с Творцом, присутствие которого постоянно ощущается в красоте и величии созерцаемого автором мира. Ключевым в образе реки является его духовное измерение. Также в тексте актуализирован архетип границы или перехода, связанный с личным духовным преображением автора, для которого путешествие по Лене и рекам ее бассейна приобретает характер христианского паломничества. Значение «Путевых записок» архиепископа Нила для общей истории сибирской литературы заключается в том, что в образе реки им воссоздается динамический образ всей Сибири — древней, погруженной в первобытный хаос, языческой и мифологической по своей сути, но открытой к христианскому преображению и возрождению.
Список литературы «В кораблике моем горит свеча...»: образ реки в «Путевых записках» архиепископа Нила (Н. Ф. Исаковича)
- Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2000. 404 с.
- Александрова-Осокина О. Н. Вопросы геопоэтики в современном литературоведении // Научный диалог. 2020. № 5. С. 216–241.
- Анисимов К. В. Биографический сюжет в областнической литературе и публицистике: истоки и структура // Анисимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX — начала XX века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. С. 176–198.
- Богумил Т. А. Библейские сюжеты в сибирском тексте // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 2020. Т. 18. № 4. С. 331–347 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1604088106.pdf (10.11.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8742
- Замятин Н. Д. Стрела и шар: введение в метагеографию Зауралья // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве: коллективная монография / отв. ред. К. В. Анисимов. Красноярск: Изд-во Сибирского фед. ун-та, 2010. С. 7–27.
- Замятин Н. Д. Путешествие: пространство, образ, реальность // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2015. № 5/6. С. 64–78.
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 7–19 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089.pdf (10.11.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382
- Захарова В. Т. Онтологический статус образа реки в русской прозе XX века (по материалам мемуарно-автобиографической публицистики) // Вестник Мининского университета. 2013. № 2. С. 5–11.
- Казаркин А. П. Проза Сибири в ХХ веке // Сибирь в контексте мировой культуры: коллективная монография. Томск: Изд-во Томского гос ун-та, 2003. С. 97–118.
- Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Индрик, 2006. С. 9–32.
- Макарова Е. А. Специфика бытования «сибирского текста» в литературной ситуации последней трети XIX века // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве: коллективная монография / отв. ред. К. В. Анисимов. Красноярск: Изд-во Сибирского фед. ун-та, 2010. С. 45–62.
- Мельникова С. В. Миссионер, ученый, философ, поэт: образ автора-путешественника в «Путевых записках» архиеп. Нила (Исаковича) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. № 1 (21). С. 100–107.
- Мельникова С. В. Пространство «духовного глада» и апостольского подвига: образ Сибири в мемуарах дореволюционного православного духовенства // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 5 (37). С. 157–171.
- Мельникова С. В. Сибирь как объект научного, философского и художественного осмысления в сочинениях архиепископа Иркутского Нила (Н. Ф. Исааковича, 1779–1874) и епископа Якутского Иакова (И. П. Домского, 1823–1889) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 52. С. 184–200.
- Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35.
- Худенко Е. А. Реки Сибири в очерковых и художественных текстах В. Я. Шишкова // Фундаментальные проблемы гуманитарных наук: опыт и перспективы развития исследовательских проектов РФФИ: материалы всерос. науч. конф. Барнаул, 2020. С. 347–350.
- Янушкевич А. С. Сибирский текст: взгляд извне и изнутри // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: науч. доклады междунар. науч. конф. Иркутск, 2004. С. 227–235.