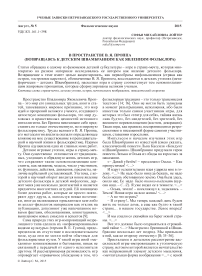В пространстве В.Я. Проппа (возвращаясь к детским швамбраниям как явлениям фольклора)
Автор: Лойтер Софья михайловнА.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Конфиренции
Статья в выпуске: 5 (150), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья обращена к одному из феноменов детской субкультуры - игре в страну-мечту, которая многократно на разном материале исследовалась ее автором как явление детского фольклора. Возвращение к теме имеет целью акцентировать, как первообразы мифомышления (страна как остров, «островное царство»), обозначенные В.Я. Проппом, воссоздаются в детских утопиях (метафорически - детских Швамбраниях), насколько игра в страну соответствует тем основополагающим жанровым принципам, которые сформулированы великим ученым.
Страна-мечта, детские утопии, остров, мечтательное воображение, поведенческий стереотип
Короткий адрес: https://sciup.org/14750934
IDR: 14750934 | УДК: 821.161.1+398
Текст научной статьи В пространстве В.Я. Проппа (возвращаясь к детским швамбраниям как явлениям фольклора)
Пространство Владимира Яковлевича Проппа – это мир его уникальных трудов, книг и статей, завоевавших мировое признание, это мир идей и прозрений великого ученого, создавшего целостную концепцию фольклора, это мир духовных и нравственных ценностей истинного интеллигента. Без Проппа невозможно себе представить не только отечественную, но и мировую фольклористику. Труды великого В. Я. Проппа, его методология анализа оказали определяющее влияние на мое существование в преподавательской и научной жизни в фольклористике. Идеями Проппа одушевлена одна из главных моих работ.
Детские игровые утопии, игры в страну-мечту. Они существенно отличаются от традиционных, уходящих в обрядовую жизнь детских игр, что сохраняют такие основополагающие константы, как название, модель, число участников, их функции, действия, движения, предметы, наличие вербальной составляющей. Эта тема, с которой в научный оборот вводится новое явление детского фольклора и детской мифологии, держит меня уже несколько десятилетий и является предметом многолетних штудий. Ей посвящено более десятка работ, которые не просто повторяют друг друга, а, используя новые источники, иногда являющиеся присланным кем-либо из коллег-филологов материалом как отклик на публикацию, дополняют уже напечатанное новыми фактами, обоснованиями, коннотациями, выявлением новых смыслов и аспектов [9].
Сама природа этих игр-импровизаций незрелищного типа сделала их «нефиксированными видами культуры» (термин В. Е. Гусева), предопределила их отсутствие в исследовательском поле, куда они не могли войти обычным для фольклористики путем. У такой игры иной «механизм» возникновения и бытования, никак не связанный с передачей от одного исполнителя другому. И рассматриваемая разновидность игр опровергает «привычное убеждение в том, что
фольклорная традиция – это только трансмиссия текстов» [14; 16]. Они не могли быть записаны в момент разыгрывания, исполнения, ибо были известны только самим участникам игры, для которых это был «театр для себя», тайная жизнь «как будто», без свидетелей, без зрителей, без внешнего перевоплощения (костюм, декорации). Такая игра, как правило, воспроизводится ретроспективно в письменной форме самими участниками, ставшими взрослыми.
Импульсом и началом изучения этих игр была Швамбрания из известной (смею сказать, классической) повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Швамбранию придумали герои повести Лелька и Оська из обиды на взрослых за наказание.
«– Давай убегём! – предложил Оська. – Как припустимся! <…>
И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. <…> Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать (курсив наш. – С. Л. ) . Я уже видел ее в темноте. <…>
– Оська, земля! – воскликнул я, задыхаясь. – Земля! Новая игра на всю жизнь! <…>
– А во что играть?
– В страну!.. Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране… в нашем государстве. Левое вперед!
И мы сошли со скамейки на берег новой страны. <…>
Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне <…> Мы играли с братишкой в Швам-бранию несколько лет подряд. Мы привыкли к ней, как ко второму отечеству» [8; 35–36].
Пристальное и детальное рассмотрение кас-силевской игры-импровизации в утопическую страну, истоком которой является мечтательство как непременный элемент детского мышления, «мечтательная форма воображения <…> с ясной установкой на то, чтобы построить известный фантастический образ, относящийся к будущему» [4; 449–450], позволило мне сначала гипотетически высказать мысль об их причастности к детскому фольклору. Затем к изучению были привлечены другие многочисленные нетрадиционные для фольклористики и этнографии источники: 1) воспоминания, дневники, эссе; 2) автобиографические повести о детстве; 3) собственно детская литература (русская – преимущественно и зарубежная).
Самые ранние изображения или упоминания детских утопий относятся к первой трети XIX века, их продолжает игра в муравейных братьев, «Фанфаронова гора» и таинственная «зеленая палочка» братьев Толстых. Пик бытования игр в страну-мечту падает на начало ХХ века и 1940–1950-е годы, когда были придуманы страны Н. П. Анциферова, И. М. Дьяконова, М. Пришвина, З. Герцык, М. Шагинян, И. Эренбурга, К. Паустовского, А. Макина, У. Эко и др. Заметную группу материалов составили письма-отклики с воспоминаниями: фольклористов К. В. Чистова, М. Ю. Новицкой, литературоведов В. С. Баевского, Д. И. Черашней, Б. Ф. Егорова.
Совершенно особый слой текстов появился с использованием в фольклористике в 1990-е годы таких методов собирания (преимущественно в городе), как анкетирование, опросы, домашние задания для студентов. Это тексты «письменного фольклора» нескольких видов от студентов (тетради, описания, краткие ответы с названием вымышленной страны (Арлезиания, Страна Златорогого Оленя, Лимония, Страна Южинская, Атвитония и др.).
Среди многих выявленных игр в страну-мечту Швамбрания Л. Кассиля – одно из самых ярких и развернутых воплощений. Ее привлекательность, обаяние и в то же время достоверность состоят в том, что Кассиль перенес игру своего детства в книгу. В Швамбрании все представимо, оперсонажено, опредмечено. «Страна высокой справедливости, сладчайшего благополучия и пышного совершенства», как определяет ее автор, Швамбрания – морская держава, большой остров, имеющий форму зуба с тремя корнями, срисованными с зубоврачебной рекламы, у нее свой флот, свое флагманское судно со своим адмиралом Арделяром Кейсом. Произвольность, ассоциативность, абсолютную свободу комбинаций отражает «народонаселение» вымышленной страны (глава «Заповедник героев»), вобравшее в себя немалый книжный опыт ее создателей (несколько переиначенное название страны имеет своим началом книжный источник – «Греческие мифы» Шваба). И этот искрометный праздник вымысла позволил говорить о феномене Швам-брании, превратив ее название в имя нарицательное, в метафору. Мне не раз приходилось, когда речь заходила о детских мечтаниях, слышать:
«наши детские Швамбрании», «сочиняли свои Швамбрании», «Швамбрания: Л. Мартов с братьями-сестрами в детстве играл в страну с особым моральным миром: Приличенск» [5; 436]1.
Основанная на творческой переработке книжных и жизненных впечатлений, «комбинировании их и построении на их основе новой действительности» [3; 7], вымышленная страна Кассиля несет в себе такую степень произвольности и свободы, такое нарушение привычного порядка вещей, такую логику «обратности», что делает игру родственной карнавальной культуре как «особой форме вольного фамильярного контакта между людьми, разделенными в обычной, то есть внекарнавальной жизни непреодолимыми барьерами сословного, имущественного, семейного и возрастного положения» [1; 13].
Наиболее близки Швамбрании игры, описанные двумя авторами мемуаров – известным литературоведом, краеведом и историком Петербурга Н. П. Анциферовым («Из дум о былом») и известным ученым-востоковедом, переводчиком И. М. Дьяконовым. Амония, Парамония и Ронда-лия, созданные воображением гимназиста Коли Анциферова и его друзей – братьев Фортунатовых (один из них Филипп Федорович – известный лингвист), – это «неведомая, бесконечная страна чудес и сокровищ», «первая мечта об острове блаженных». Ахагия – целый архипелаг с множеством маленьких островов-государств, придуманных героями И. М. Дьяконова в «Книге воспоминаний».
Когда сформировался / образовался обширный и разнообразный материал о детских утопических играх, явленных то как развернутый художественный сюжет, то как подробное описание, то всего лишь как упоминание или высказывание, появилась возможность обоснованно говорить о них как явлении фольклора, определить их типологические признаки.
Характеризуя типологию этой импровизационной игры в страну-мечту, назову ее доминирующую константу – это поведенческий комплекс, «поведенческий стереотип», который содержит в себе способности «к многократной повторной применимости, способности к модификациям, к вариативности» [14; 111–112]. А вариативность – основа творческого процесса в фольклоре. Варьирование не ограничивается словесной сферой. По словам Б. Н. Путилова, «варьирование может захватывать все стороны плана содержания, плана выражения и реального функционирования фольклора» [13; 201]. Фольклорное знание в нашем случае включает в себя не только и не столько тексты, сколько широкий спектр воспроизведений и исполнений. Главный повторяющийся стереотип и «стабилизатор» игры, ее сигнал, ее маркер – страна (или ее эквиваленты) как символ воплощенной мечты или второй «автономной реальности», которая противополагается реальности существующей. Неосознанно для «авторов» игры модель страны-мечты определяет свои архетипы коллективного и бессознательного, свои первообразы мифомыш-ления, связанные с представлениями о «волшебной стране», об «ином царстве», «стране обилия», «солнечном царстве», которое разные мифологии связывают с островным положением. Исследуя «тридесятое царство» в сказках, В. Я. Пропп называет его «островным царством». Но оно может «лежать и на горе», «быть городом». Остров, город-государство, гора – таковы «формы локализации иного царства» в фольклоре многих народов, генетически восходящие к представлениям об ином «небывалом» мире [11; 290].
Как фольклорное явление игра в страну-мечту соответствует тем основополагающим жанровым принципам, которые были сформулированы В. Я. Проппом: «общность поэтической системы, бытового назначения и формы исполнения» [12; 46]. Игра в страну-мечту содержит в себе типологические признаки детской художественной игры: 1) способ воплощения художественного образа, которым является «страна», – поэтический символ идеального, гармонического мира, мифологизированное место действия, мифологизированный локус, преимущественно островное пространство; 2) структуру страны – план содержания, всякий раз заново созданный сценарий, основанный на деятельности воображения; 3) общность функциональных и исполнительских принципов новых игровых ситуаций – игра тайная, засекреченная, тщательно скрываемая, известная только самим играющим, которых преимущественно от одного до трех-четырех человек. Существующая прежде всего как способ духовной (и что не менее важно сокровенной) консолидации узкого круга участников, такая игра в основном городских детей – всегда новый сюжет, новые мотивы, персонажи, люди и/ или животные, пребывающие, как уже отмечалось, в отношениях «вольного фамильярного контакта». Как правило, существование такой игры (слово «исполнение» в данном случае не подходит, так как это игра длительная, она не исполняется, а проживается) сопровождается созданием большего или меньшего количества атрибутов – своеобразного вещественного приложения, которое делает игру синтезом устных и письменных форм. Один из главных таких атрибутов – географическая карта, а самая впечатляющая – карта Швамбрании («У меня сохранились “швамбранские письма”, географические карты, военные планы Швамбрании, рисунки ее флагов и гербов»). Во всех упоминаемых мною странах реквизиты игры присутствуют и живописуются не так ярко, как в Швамбрании, но они везде-присущи.
Совершенно особая сфера в играх в страну – их ономастика, то есть все то, что относится к именам собственным, – топонимам, антропонимам, зоонимам. Большинство из них не входит в основной словарный фонд языка, отсутствует в существующих толковых словарях или словарях имен, а относится к области словотворчества. Одна группа названий (Швамбрания, Кальдония, Бальвония, Шелопутия, Пришпандория, Гирлян-дия – у Кассиля; Амония, Парамония, Рондалия – у Анциферова; Ахагия, Миндосия, Пендосия, Делвария – у Дьяконова и др.) образована по одной и той же модели (суффикс -и- и окончание -я), которую известный исследователь детской речи А. Н. Гвоздев называет характерной для обозначения географических названий стран и областей в детском словотворчестве [6; 251]. Многочисленные примеры топонимов в располагаемых мною играх – замечательные плоды сочинительства, игры словом. Это произвольные и парадоксальные лексемы, близкие к зауми, образованные либо по принципу комбинаций частей разных слов, слогов и придания им самостоятельного значения, либо по принципу перестановки звуков и слогов в слове (метатезис), либо по принципу создания новых звукокомплексов, звукоподражательных, ономатопеических и междометных слов. Такая «языковая игра» – игра в игре [2; 83]. И она тем интереснее, изощреннее и богаче, чем начитаннее играющие. Это очень явственно обнаруживают игры современных детей, книжный багаж которых несравненно беднее. Тем не менее страны-утопии продолжают свою жизнь2, подтверждая положение Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского о том, что мифологический тип мышления может принадлежать и немифологической культуре, что устойчивость мифологии оказывается «предметом непосредственного наблюдения при обращении к миру ребенка», ибо детское мышление является «типично мифологическим» [10; 290–295].
Утверждая бесценность вечнодетского, игры в страну-мечту, детские утопии, детские Швам-брании вошли в фольклористику, стали достоянием науки. И о том, что они расширили спектр утопических воплощений, свидетельствует мнение одного их патриархов отечественной фольклористики, автора новаторского исследования о крестьянских социально-утопических легендах К. В. Чистова [16]. В новой книге «Русская народная утопия» он назвал появление детских утопий в исследовательском поле «подлинным открытием». «Это ново и своеобразно и вполне согласуется с современным расширительным пониманием фольклора» [15; 487–488]. А известный петербургский историк, культуролог, литературовед Б. Ф. Егоров ввел детские страны-мечты в исторический путеводитель «Российские утопии» [7; 121, 270–271].
В пространстве В. Я. Проппа я впервые оказалась на первом курсе филологического факультета Петрозаводского университета, когда слушала лекции по фольклору его ученицы, позже друга – Ирины Петровны Лупановой3. Не помню, в каком году, взяв у Ирины Петровны монографию «Исторические корни волшебной сказки» тогда единственного издания 1946 года, из-за отсутствия в библиотеках полностью переписала от руки всю книгу, и два толстых блокнота до сих пор служат мне, хотя уже обладаю вторым изданием книги 1986 года. К работам Проппа неизменно обращалась на лекциях по фольклору в Карельском педагогическом институте, на занятиях научного студенческого кружка, когда студенты узнавали его «Морфологию сказки», реферировали отдельные работы. В развитие идей Проппа написан ряд статей: «О жанровой специфике кумулятивной сказки», о кумулятивной форме в детском фольклоре, ее мифоритуальных истоках4. После смерти И. П. Лупановой (2003) мне были переданы письма В. Я. Проппа, которые прокомментировала и подготовила к печа-ти5. И сейчас, когда достигла весьма преклонных лет, совершенно особым для меня пространством стала книга «Неизвестный В. Я. Пропп», содержащая его автобиографическую повесть «Древо жизни», переписку с другом В. С. Шабуниным, врачом и художником, воспоминания учеников, друзей и коллег, «Дневник старости»6. Особенно «Дневник старости». «Под старость чувства не притупляются, а, наоборот, все обостряется; я стал еще более впечатлителен». «Я вижу, что несмотря на все свои тщательно скрываемые немощи, чего-то стою. <…> Я томлюсь неизъяснимым счастьем жизни» (это накануне своего 70-летия). «Я опять верю в свою работоспособность, в то, что моя инфернальная усталость обратима и что и в 70 можно быть бодрым». «Говорят, что наука – это подвиг, наука – это труд, большой, упорный, интенсивный. Наука – это страсть, притом страсть, с которой надо родиться. А в страстях человек не всегда волен. Вот схватит страсть – и становишься одержимым».
Настоящая статья – благодарение Владимиру Яковлевичу Проппу, в пространстве которого я находилась много десятилетий жизни. Она и дань памяти открывателю Швамбрании Льву Абрамовичу Кассилю, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
Список литературы В пространстве В.Я. Проппа (возвращаясь к детским швамбраниям как явлениям фольклора)
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. 525 с.
- Витгенштейн Л. Философские работы. Феноменология. Герменевтика. Философия языка. Ч. 1. М., 1994. 206 с.
- Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1967. 93 с.
- Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1982. 504 с.
- Гаспаров М.Л. Записки и выписки//НЛО. 1998. № 31 (3). С. 427-439.
- Гвоздев А.Н. Формирование у ребенка грамматического строя русского языка: В 2 ч. Ч. 1. М., 1949. 268 с.
- Егоров Б.Ф. Российские утопии. Исторический путеводитель. СПб., 2007. 416 с.
- Кассиль Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М., 1965. 670 с.
- Лойтер С.М. Юмор «Кондуита и Швамбрании» Л. Кассиля и детский фольклор//Жизнь и творчество Л. Кассиля/Сост. Л.Э. Разгон. М., 1979. С. 189-202
- Лойтер С.М. Игра в страну-мечту как явление детского фольклора//Школьный быт и фольклор: В 2 ч./Сост. А.Ф. Белоусов. Таллинн, 1992. Ч. 1. С. 65-75
- Лойтер С.М. Детские утопии, или игра в страну-мечту как явление детского фольклора//Русский школьный фольклор/Сост. А.Ф. Белоусов. М., 1998. С. 605-617
- Лойтер С.М. Феномен детской субкультуры. Петрозаводск, 1999. 44 с.
- Лойтер С.М. Русский детский фольклор и детская мифология. Петрозаводск, 2001. С. 134-173
- Лойтер С.М. Еще раз о детской игре в страну//Фольклор, постфольклор, быт, литература: Сб. ст. к 60-летию А.Ф. Белоусова. СПб., 2006. С. 59-64
- Лойтер С.М. Древнегреческие истоки русских детских игровых утопий первой трети ХХ века//Россия и Греция: диалог культур. Петрозаводск, 2007. С. 338-343.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф. Имя. Культура//Труды по знаковым системам. 6. Вып. 308. Тарту, 1973. С. 282-303.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 365 с.
- Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976. 325 с.
- Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. In memoriam. СПб., 2003. 464 с.
- Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Очерки истории. Л., 1986. 303 с.
- Чистов К.В. Русская народная утопия (Генезис и функции социально-утопических легенд). СПб., 2003. 539 с.
- Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967. 341 с.