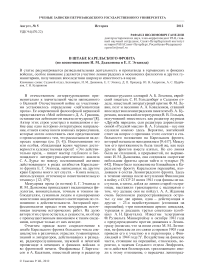В штабе Карельского фронта (по воспоминаниям И. М. Дьяконова и Е. Г. Эткинда)
Автор: Ганелин Рафаил Шоломонович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается разведывательная деятельность и пропаганда в германских и финских войсках, особое внимание уделяется участию ленинградских и московских филологов и других гуманитариев, получивших впоследствии широкую известность в науке.
Седьмой отдел, беломорск, и. м. дьяконов, е. г. эткинд, д. п. прицкер, ю. в. андропов, а. с. щербаков, г. н. куприянов
Короткий адрес: https://sciup.org/14750188
IDR: 14750188 | УДК: 94(470.22)
Текст научной статьи В штабе Карельского фронта (по воспоминаниям И. М. Дьяконова и Е. Г. Эткинда)
В отечественном литературоведении применительно к значительной части написанного о Великой Отечественной войне ее участниками установилось определение «лейтенантская проза». Ее современной философской вершиной представляется «Мой лейтенант» Д. А. Гранина, оставшегося лейтенантом писателя-мудреца1 [8]. Автор этих строк усмотрел в написанном о войне еще одно историко-литературное направление, отнеся к нему книги военных переводчиков, которые могли сопоставить свое представление о происходившем с тем, что рассказывали на допросах пленные (см. [5; 4]). Воспоминания это или особая, обладающая всеми чертами достоверности художественная проза? «Это действительно проза, – пишет мастер глубокого и беспощадного литературно-критического анализа С. А. Лурье по поводу воспоминаний активно действовавшего в рядах штабистов Карельского фронта Е. Г. Эткинда, написанных на другом краю Европы много лет спустя. – Книга новелл, использующих отточенную повествовательную технику» [12; 479].
Мемуарная проза (и поэзия) Е. Г. Эткинда и И. М. Дьяконова принадлежит выдающимся филологам, внимательным, точным и тонким наблюдателям, гуманным людям и одновременно носителями академического скептицизма по отношению к действительности. Авторский профессионализм придал этим мемуарным источникам значение исторических работ. На долю автора этих строк остается, в сущности, их обзор с преимущественным вниманием к таким сведениям, которые только от них исходят.
Отметим прежде всего сосредоточение в штабе Карельского фронта большого числа специалистов в различных отраслях гуманитарных знаний и литераторов, действовавших в разведке, радиопрослушивании, звуковой и печатной пропаганде в немецких и финских войсках и во фронтовой печати. Филфаковцы Г. Бергельсон и А. Касаткин, известный автор и редактор немецко-русских словарей А. Б. Лоховиц, еврейский писатель С. И. Гольденберг в Седьмом отделе, известный литературный критик Ф. М. Левин, поэт и песенник А. А. Коваленков, ставший впоследствии ленинградским писателем В. А. Курочкин, московский литературовед В. В. Гольцев, получивший известность как редактор журнала «Дружба народов», сын редактора дореволюционной «Русской мысли» В. А. Гольцева – все они служили именно здесь. Вероятно, житейский ответ на вопрос о причинах этого состоит в стабильности положения на Карельском фронте, который называли неподвижным [9; 617]. Между тем его протяженность была такой же, как всех других фронтов вместе взятых. Но его линия была не сплошной, а прерывистой, по выражению И. М. Дьяконова, она соединяла «короткие небольшие фронты среди тайги и тундры» [9; 642]. Иным было положение на ближайшем к Карельскому фронту Карельском перешейке, входившем в состав Ленинградского фронта. Здесь в течение месяца после вступления Финляндии в войну с СССР 25 июня 1941 года финны не наступали, а затем, дойдя до линии старой госгра-ницы, выставили транспаранты с надписями о том, что дальше они не пойдут. А. А. Жданова очень беспокоили распространявшиеся остроты: «у нас две армии, одна – действующая и другая – 23-я недействующая» (стоявшая на перешейке); «три невоюющие армии: шведская, турецкая и двадцать третья советская» (сообщил А. Н. Цамутали). Известны телеграммы Ф. Рузвельта Маннергейму в октябре 1941 года с предупреждением против движения к Ленинграду (полагаю, что за ними стоял М. М. Литвинов, не финские ли его связи со времен 1905 года привели его к участию и в переговорах с Финляндией в 1944 году?)2. Воздействие на финские части, стоявшие на перешейке, относилось, вероятно, к задачам Седьмого отдела Ленфронта, но и действия беломорских «разложенцев» имели к этому отношение, о передачах ленинград- ского радио на немецком, финском и эстонском языках писал А. Рубашкин [14; 138–148].
Беломорск, где расположился штаб Карельского фронта со всеми его отделами и управлениями, несмотря на явное господство немцев в воздухе, подвергся единственной бомбардировке осенью 1941 года. Усиленное идеологическое воздействие на противника было здесь не только возможным, но и особенно желательным и даже необходимым ввиду неприязненного характера немецко-финских отношений. В соприкосновении немецких солдат с финским населением после начала войны ощущалось высокомерие с немецкой стороны, финны же считали, что немцы втянули их во вторую войну и, кто бы ее ни выиграл – Германия или СССР, – для Финляндии это добром не кончится [9; 544–546]. Инициативу в ведении боевых действий и немцы, и финны с готовностью уступали друг другу (это, в частности, относилось к положению Беломорска). И с советской стороны особая активность Ставкой верховного главнокомандования не допускалась. Так, уже в 1944 году, когда немцы стали отступать, и новый командующий фронтом К. А. Мерецков полетел в Москву, чтобы получить разрешение на устройство котла, Сталин сказал ему: «Я отвечу Вам, как Кутузов: “Вы ищете славы, а я смысла”. Запрещаю. Пускай отойдут» [9; 642]3.
И. М. Дьяконов и Е. Г. Эткинд стали не только мемуаристами, но и героями специально им посвященных работ4. Давид Петрович Прицкер ничего о себе не писал, и о нем написано немного (см. [13]). Пожалуй, очерк его друга Е. Г. Эт-кинда в «Барселонской прозе» – самая яркая его характеристика. Между тем он единственный из беломорцев к июню 1941 года имел непродолжительный опыт переводчика и разведчика, полученный во время Гражданской войны в Испании. Я был аспирантом на той же кафедре новой истории ЛГУ, что и он5. Считаю необходимым рассказать о нем то, что особенно запомнилось. Прежде всего у него была интеллигентная, мягкая и уважительная манера обращения с людьми независимо от их положения, степени его знакомства с ними и характера встречи. Никакой роли в преобладавшем легко-ироничном стиле его разговора не играло то обстоятельство, кто, он или его собеседник, выступал в качестве заинтересованной стороны. Когда в очерке о нем Е. Г. Эткинда я прочитал, что именно он был бы достойным нашим министром иностранных дел, я только в течение нескольких минут счел это литературным преувеличением. Затем я вспомнил всех тех литвиновских наркоминдельцев, с которыми мне довелось встречаться. Такую же, как у Д. П. Прицкера, внимательно-уважительную манеру обращения с окружающими независимо от их статуса я наблюдал у А. С. Ерусалимского, А. Ф. Миллера, академика Л. Н. Иванова, Е. А. Гнедина, а также у В. М. Турока-Попова, деятеля крестьянского интернационала и многолетнего московского советника австрийской компартии. Я встречался с Давидом Петровичем на сборах «испанцев», на которые меня приглашал устраивавший их мой друг историк-испанист Е. М. Тепер. Помню рассказ Давида Петровича о том, что когда после поражения республиканцев наши отправлялись морем на южное побережье Франции, генерал Шумилов (там он назывался Шиловым) поручил ему заботу о человеке, представившемся одесситом Левиным. Давид Петрович рассказывал, что с молодежным максимализмом принялся выискивать языковые погрешности своего спутника в испанском, русском и даже итальянском. Тот покорно соглашался, ссылаясь на неизгладимые особенности своей родной одесской речи. А когда приплыли во Францию, Шумилов сообщил, что ожидавшихся французских виз не будет и высадка в порту чревата опасностью прежде всего для товарища Пальмиро Тольятти, каковым оказался Левин, который, собрав все наличные деньги, вложил их в свой испанский паспорт и благополучно первым высадился на берег. В другой раз Давид Петрович долго пел под гитару испанские песни. Все зачарованно слушали. Кончив, он извинился перед дамами за то, что приличных песен, увы, не знает. Как И. М. Дьяконов и Е. Г. Эткинд, Д. П. Прицкер занял в послевоенные годы видное место среди ленинградской гуманитарной профессуры. Возглавляемая им кафедра международного рабочего и коммунистического движения Ленинградской высшей партийной школы была в течение ряда лет центром своеобразного свободомыслия [3; 204].
В Беломорске оказался и уже известный в предвоенные годы писатель Геннадий Фиш, военный журналист в звании интенданта второго ранга. У него еженедельно собирались Е. Г. Эткинд со своей женой Е. Ф. Зворыкиной, медсестрой в госпитале, и Д. П. Прицкер с женой журналисткой М. П. Рит. «Среди гостей, – писал Эткинд, – обычно бывал молчаливый на вид и, судя по некоторым репликам, вполне образованный молодой человек Юра, безнадежно влюбленный в жену Давида Мусю» [15; 431]. Это был Ю. В. Андропов, секретарь ЦК комсомола Карелии и руководитель партизанского движения за линией Карельского фронта. Обязанности Эткинда, Дьяконова и Прицкера в разведотделе и отделе по работе в войсках противника штаба этого фронта прямо входили в компетенцию Андропова. Полагаю, что регулярные встречи в неформальной обстановке с талантливыми и интеллигентными людьми, во время которых не могли не обсуждаться вопросы общеполитического характера, не прошли даром для их молчаливого участника. А он держался так скромно, что показался Е. Эткинду не только «молчаливым на вид», но и «молодым человеком», хотя был на четыре года его старше. Давая понять, что уроки Карельского фронта не были в дальнейшем забыты Андроповым, И. М. Дьяконов утверждает, что друживший с Андроповым во время войны капитан-танкист С. (имеется в виду С. Л. Соколов), отличившийся великолепно проведенными танковыми операциями, был при Андропове – генеральном секретаре ЦК КПСС – министром обороны [9; 535].
Рассказывая об источниках разведывательных данных, И. М. Дьяконов выделяет две их группы – донесения воинских частей о вооружении противника, интенсивности артиллерийского огня и на этой основе о количестве и характере его сил, а затем радиодонесения от нашей агентуры. Этим источником ведало отделение дальней разведки. Ее агенты размещались вдоль ведущих к фронту дорог на занятой противником территории. Наше командование относилось к этим сведениям с недоверием, подозревая агентов в том, что они «сдвоились», стали «двойниками», работая и на противника. «Выходившего от противника агента, – писал И. М. Дьяконов, – часто ждала печальная судьба, очевидно, по такой логике: трудно представить, что, живя за границей, человек не захочет там и остаться. А это переносилось и на агентов, живших и не за границей, а в тайге» [9; 527]6. И. М. Дьяконова как сына расстрелянного венесуэльского шпиона держали не в разведотделе, а в политуправлении, в Седьмом отделе, занимавшемся пропагандой по радио, с помощью звуковых установок на автомашинах, рупоров и листовок [1]. На Соловках действовала радиостанция, выдававшая себя за две подпольные – немецкую и финскую (соловецкий концлагерь был недавно закрыт, беломорский и другие сохранялись). «Другая основная и наиболее бесполезная часть нашей работы, – писал И. М. Дьяконов, – это было издание для немцев газеты “Der Frontsoldat”, которую потом с большим трудом нужно было забрасывать в немецкие окопы. Никаких возможностей выдать ее за что-либо, кроме советской газеты, не было. Не говоря уже о том, что передовые статьи переписывались из “Правды”, готический шрифт XIX века не мог сойти за современный немецкий. Внешний вид газеты был очень убогим. Эта газета никого не могла убедить в том, что надо сдаваться и воевать против Гитлера» [9; 558]7. Вот приведенный И. М. Дьяконовым пример неудачной грубой старательности редакции «Фронт-зольдат»: «Главный наш козырь был в том, что СС якобы устроили человеческие случные пункты, чтобы немецкие женщины могли от них, эсэсовцев, производить чистых арийцев. Мы агитировали немецких солдат, уверяя их, что, пока они воюют, их жены путаются с эсэсовцами. Это вызывало громкий хохот по ту сторону фронта, так как всем было известно, что ничего подобного не происходило. Года через полтора выяснилось, что это была утка швейцарской газеты на первое апреля. А наши раструбили ее всерьез в наших газетах – и нам в “седьмом отделе” это тоже было подано как блестящая идея для пропагандистской разработки» [9; 560].
Издавалась и газета для финских солдат. «Существование ее было гораздо более целесообразно, – писал И. М. Дьяконов. – Во главе ее стоял… очень умный человек, полковник Лехен, старый работник Коминтерна, участник испанской войны. Он прекрасно говорил по-испански, по-немецки, по-фински и по-русски. Сотрудниками у него были исключительно финны. Это были политэмигранты-коммунисты, уцелевшие несмотря на 1937 год. Все они жили в России по 10–20 лет, но почти ни слова не говорили по-русски. Зато финский дух и психику они понимали великолепно и выпускали газету, полную народного юмора, интересную, которая, наверное, оказывала определенное влияние на финнов. Эта война была у них непопулярна. Если в финскую войну они дрались активно и даже отчаянно, потому что защищали свою родину, то в этой участвовать не хотели, считая, что их в это дело втравили немцы» [9; 564].
Выпускался также сатирический ежемесячник «Мишка на Севере» (название шоколадных конфет) со стихами Е. Г. Эткинда [15; 339].
Разведывательная деятельность, как и «разло-женческая», оказывалась связанной с инсценированием перехода советских офицеров на сторону противника. Делалось это с фабрикацией таких бесспорных, казалось бы, признаков и доказательств, что оба наши мемуариста при всей своей проницательности «клюнули» на приманки и поверили инсценировщикам. Вел дело сам начальник Седьмого отдела полковник М. Суомалай-нен, уединяясь для шифровок и прочих операций со штабными женщинами. Поклонник одной из них, ревнивый морской офицер, ночью вынудил свою даму на «признание». В то же утро он сообщил об этом в Особый отдел. Но через месяца три, встретив ее на улице, услышал от нее, что она читала его донос. «Дурачок, как ты мог поверить, что я шпионка?» – сказала она. Эткинд, с которым ревнивец поделился своим открытием, по совету своих сослуживцев сообщил о Суома-лайнене в Особый отдел. Но тот остался на своем посту, а Эткинда убрали из политуправления с запрещением работы, связанной с контактом с противником. Он, впрочем, оказался переводчиком в разведотделе 26-й армии, в который его взял ее командующий генерал-лейтенант Л. С. Свирский [15; 339–343], [9; 634].
Возможно, что именно необходимость ограждать от бдительности окружающих инсценированные с разведывательными целями операции мешала особистам стряпать политические обвинения против военнослужащих и населения.
Дополнительной причиной случаев их воздержания был приход в ряды особистов по мобилизации молодых юристов взамен тех следователей НКВД, которые погибли в 1938 году. Одним из таких «новобранцев» на Карельском фронте оказался О. С. Иоффе, окончивший юридический факультет ЛГУ, ученик известного правоведа Я. М. Магазинера, тестя И. М. Дьяконова. Мальчик из Кандалакши из романтических побуждений донес в штаб армии, что его родные – немецкие шпионы. Более чем десяти арестованным угрожал расстрел. О. С. Иоффе, который должен был участвовать в деле, подал В. С. Абакумову рапорт об увольнении и был к нему вызван. Услышав отказ Иоффе от нарушения законов, Абакумов спросил, сколько тому лет, и назначил по их числу 21 сутки карцера с увольнением из СМЕРШа и переводом в группу прослушивания немецкого радио. О. С. Иоффе стал выдающимся цивилистом, заведующим кафедрой в ЛГУ. Среди его учеников были такие по-разному одаренные люди, как А. А. Собчак и С. Ю. Юрский, оставивший, как и некоторые другие ученики Иоффе, свои о нем воспоминания. Закончил Иоффе свою профессорскую карьеру в США [10].
Потрясла штабной Беломорск история Ф. М. Левина, приключившаяся в редакции фронтовой газеты «В бой за родину!», в которой он служил вместе с уже названными Коваленко-вым, Курочкиным и Гольцевым. Накануне нового 1942 года за их тремя подписями был подан донос о пораженческих антисоветских разговорах, которые-де вел Левин. И. М. Дьяконов объяснял их порыв тем, что Левин внезапно вышел из комнаты, прервав общий политический разговор, а его собеседники, заподозрив его в том, что он пошел на них доносить, решили спастись, обогнав его [9; 568], [15; 366–367]8. На протяжении нескольких месяцев из окон редакции было видно, как арестованного Левина вместе с другими зэками водили под конвоем на работу. Однако следователь по его делу оказался похож на О. С. Иоффе и добился прекращения дела. Сцена возвращения Левина в редакцию и его встречи с коллегами-заявителями едва ли не самая яркая в «Барселонской прозе». Следователь стал другом Левина и вместе с Е. Г. Эткиндом хоронил его в Москве в 1970-х годах. Рассказ Эткинда, посвященный Ф. М. Левину, воссоздает яркий образ и трагическую жизнь, в том числе и личную, честного человека и убежденного большевика, помогавшего Маяковскому, будучи инструктором горкома в Севастополе, и оказавшегося обвиненным в космополитизме.
И. М. Дьяконов, обосновывая поворот в войне 1943 года, связывал с его началом и усиление эффективности осуществлявшейся пропаганды, которая хотя и улучшилась до того, представлялась служившим в Седьмом отделе бессмысленной, как и деятельность СМЕРШа [9; 620].
Осенью 1943 года секретарь ЦК ВКП(б) и начальник Главного политуправления вооруженных сил А. С. Щербаков прислал в Беломорск группу своих подчиненных для проверки фронтовой газеты. Надо полагать, что они не обошли вниманием и газеты, выходившие на немецком и финском языках. Когда проверявшие вернулись в Москву, Щербаков позвонил по телефону члену Военного совета Карельского фронта, первому секретарю обкома Г. Н. Куприянову. Вот как передает этот разговор биограф Куприянова:
«– Товарищ Куприянов! Вы читаете свою газету?
– Читаю.
– Вам она нравится?
– Мне газета нравится. Ваши товарищи тоже не отметили серьезных недостатков.
– Знаете ли вы сотрудников редакции?
– Знаю основных лучших журналистов.
– А знаете ли вы, что половина редакции евреи?
– Мы одна фронтовая семья, – ответил Куприянов, сообразив в чем дело.
Щербаков учинил подлинный разнос. Ругался матом, что тогда было в моде, сказал, что член Военного совета Куприянов отстал от жизни, ибо не знает, кто сидит в тылу, кто оказался в редакции фронтовой газеты. В конце разговора последовал прямой приказ:
– Разогнать эту вашу синагогу!» [7; 258–259].
Нам уже приходилось писать о решениях по еврейскому вопросу, принятых именно осенью 1943 года [4; 10–13] и связанных, как представляется, с началом освобождения оккупированных территорий и роспуском Коминтерна, облегчившим их принятие. Куприянов, по-видимому, не стал трогать «синагогу» и не предал огласке звонок Щербакова. Не исключено, что он руководствовался опытом, полученным на XVIII конференции ВКП(б), в ходе которой убедился в значении еврейского вопроса на пути к 22 июня [7; 130–132]. Но та директива, которой Щербаков руководствовался, разумеется, стала известна и в штабе Карельского фронта. «В 1943 г., – писал И. М. Дьяконов, – по нашей армии был издан секретный приказ о том, чтобы “евреев и других националов” не продвигать, хотя (пока) и не задвигать» [9; 724]. Единственным известным Дьяконову пострадавшим от приказа, и то через год после его издания, явился сам начальник Седьмого отдела. «К осени (1944 года. – Р. Г.), к нашему изумлению, у нас сняли Суомалай-нена, – вспоминал Дьяконов. – На его месте появился некий подполковник Курбанов, или Курганов, не помню точно. Дела нашего он не знал, а назначение его, надо думать, было связано с начавшейся “линией” на русификацию кадров» [9; 642]. Не исключено, что причина была в выходе Финляндии из войны, кроме того, Суомалайнен был старшим в своем отделе по должности и званию, и его устранением демонстрировалось под- чинение приказу. Как и Е. Г. Эткинд, И. М. Дьяконов уделил специальное внимание еврейскому и национальному вопросу в правительственной политике военного времени. Он считал ограничения и преследования по национальному признаку пришедшими на смену борьбе классов и истреблению интеллигенции. Трое беломор-цев – Дьяконов, Эткинд и Иоффе – стали выдающимися учеными, причем двое последних завершили свою деятельность за рубежом, обогатив мировую науку достижениями литературоведения и юридической мысли в России. А. Касаткин долгое время возглавлял германскую кафедру в ЛГУ. Беломорский интеллигентский десант не только в известной мере способствовал выходу Финляндии из войны, что привело к роспуску Карельского фронта в ноябре 1944 года, но и каким-то трудно осознаваемым образом заложил традицию сосредоточения в послевоенной Карелии высококвалифицированных ученых-гуманитариев. Петрозаводск стал заповедным для тех, кому нельзя было находиться в Ленин- граде и других городах. В разное время и по разным причинам в Карелии в течение более или менее длительного времени работали супруги К. В. и Б. Е. Чистовы, В. Г. Базанов, В. В. Мавродин, Е. М. Мелетинский, Н. А. Мещерский, М. Я. Резников, А. Л. Витухновский.
Закончу словами Е. Г. Эткинда, которыми он откликнулся на книгу И. М. Дьяконова: «Русская интеллигенция продолжала исполнять свой долг, даже не вступая в политическую войну с режимом, используя легальные возможности. Режим, расправлявшийся со многими, принужден был ее терпеть. Для меня (не только для меня!) И. М. Дьяконов был наивысшим образцом такой русской интеллигенции, которая ухитрялась сохранить человеческое достоинство и независимость (да-да, независимость) мысли, – всемогущая пропаганда не могла поколебать ее чувства справедливости, ее терпимости и глубоко укоренившегося демократизма, даже наследственной приверженности интернационализму и социалистическим идеям» [15; 473–474].
Список литературы В штабе Карельского фронта (по воспоминаниям И. М. Дьяконова и Е. Г. Эткинда)
- Бурцев М. И. Прозрение. М.: Воениздат, 1981. 320 с.
- В гостях у Гордона. 21 мая 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gordon.com.ua
- Ганелин Р Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940-х -1970-х годах. СПб.: Нестор-История, 2006. 408 с.
- Ганелин Р Ш. Из воспоминаний о Н. Е. Носове//Государство и общество в России XV -начала ХХ в.: Сб. статей памяти Н. Е. Носова. СПб.: Наука, 2007. С. 10-13.
- Ганелин Р Ш. СССР и Германия перед войной. Отношения вождей и каналы политических связей. СПб.: 2010. 288 с.
- Ганелин Р. Ш. Дело М. М. Литвинова на XVIII партконференции ВКП(б)//Новейшая история России. 2011. № 1. С. 130-132.
- Гордиенко А. А. Куприянов и его время. Петрозаводск: Карелия, 2010. 447 с.
- Гранин Д. Мой лейтенант. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 320 с.
- Дьяконов И. М. Книга воспоминаний. СПб.: Европейский дом, 1995. 766 с.
- Иоффе О. С. Размышления о праве. Астана: Институт законодательства РК, 2002. 72 с.
- Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг./Под ред. А. И. Бабина. М.: Наука, 1984. 358 с.
- Лурье С. А. О «Барселонской прозе»//Эткинд Е. Г. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., 2001. 479 с.
- Прицкер Д. П. [Некролог]//Новая и новейшая история. 1997. № 4. С. 219-220.
- Рубашкин А. Голос Ленинграда. СПб.: ИД «Петрополис», 2012. 229 с.
- Эткинд Е. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб.: Академический проект, 2001. 496 с.