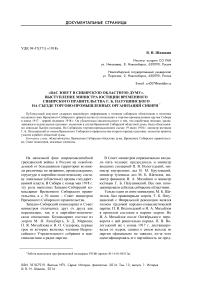"Вас зовут в сибирскую областную думу". Выступление министра юстиции временного сибирского правительства Г. Б. Патушинского на съезде торгово-промышленных организаций Сибири
Автор: Шишкин Владимир Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Документальные страницы
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Публикуемый документ содержит важнейшую информацию о позиции сибирских областников и политике созданного ими Временного Сибирского правительства по отношению к торговопромышленным кругам Сибири в конце 1917 – первой половине 1918 г. Он убедительно свидетельствует о том, что ошибочная позиция, заключавшаяся в недопущении цензовых элементов в состав Временной Сибирской областной думы, была областниками довольно быстро осознана. На Сибирском торгово-промышленном съезде 19 июля 1918 г. министр юстиции Г. Б. Патушинский от имени Временного Сибирского правительства открыто призвал цензовые элементы принять участие в работе областной думы.
Областничество, временное сибирское правительство, временная сибирская областная дума, совет министров, цензовые элементы
Короткий адрес: https://sciup.org/147218983
IDR: 147218983 | УДК: 94.47(571)
Текст научной статьи "Вас зовут в сибирскую областную думу". Выступление министра юстиции временного сибирского правительства Г. Б. Патушинского на съезде торгово-промышленных организаций Сибири
На начальной фазе широкомасштабной гражданской войны в России на освобожденной от большевиков территории возникли различные по названию, происхождению, структуре и партийно-политическому составу локальные (областные) органы государственной власти. В Сибири с конца мая 1918 г. эту роль выполнял Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства, а с 30 июня – Совет министров Временного Сибирского правительства.
Западно-Сибирский комиссариат и Совет министров отличались друг от друга как персонально, так и в партийно-политическом отношении. Комиссариат состоял из эсеров М. Я. Линдберга, Б. Д. Маркова, П. Я. Михайлова и В. О. Сидорова, первые трое из которых являлись членами Всероссийского Учредительного собрания и максималистами в рядах партии.
В Совет министров первоначально входили пять человек: председатель и министр внешних сношений П. В. Вологодский, министр внутренних дел В. М. Крутовский, министр туземных дел М. Б. Шатилов, министр финансов И. А. Михайлов и министр юстиции Г. Б. Патушинский. Все они позиционировали себя как сибирские областники.
Только один из пяти министров, М. Б. Шатилов, был правоверным эсером. Г. Б. Пату-шинский с Февральской революции являлся членом трудовой народно-социалистической партии. П. В. Вологодский и И. А. Михайлов в прошлом состояли в партии эсеров. Но И. А. Михайлов после Октябрьского переворота с ней решительно порвал. П. В. Вологодский же с конца 1917 г. дистанцировался от эсеров, однако о своем выходе из партии официально не заявлял, из-за чего идентифицировать его партийность не пред-
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-01-00313а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 1: История © В. И. Шишкин, 2014
ставляется возможным. В. М. Крутовский ни в какой политической партии не состоял, но сочувствовал эсерам и считал себя беспартийным социалистом, хотя во Всероссийское Учредительное собрание баллотировался по списку народных социалистов. Совершенно очевидно, что в партийнополитическом отношении Совет министров был намного «правее» Западно-Сибирского комиссариата.
Несмотря на такое серьезное различие, Западно-Сибирский комиссариат и Совет министров имели одну и ту же серьезную проблему. У них была общая родословная, поскольку оба являлись структурными элементами Временного Сибирского правительства, которое в конце января 1918 г. сформировала в Томске на своем единственном заседании Временная Сибирская областная дума. Легальность же как самой Временной Сибирской областной думы, так и созданного ей Временного Сибирского правительства даже по меркам того времени была весьма сомнительной, что нашло свое отражение в их низкой легитимности. С одной стороны, Временную Сибирскую областную думу изначально не признавали большевики и руководимые ими советы, объявившие ее контрреволюционной и под этим предлогом разогнавшие буквально накануне открытия. С другой стороны, областники не допустили во Временную Сибирскую областную думу цензовые элементы. Следствием такой позиции областников стало отрицательное отношение цензовых элементов к думе, Западно-Сибирскому комиссариату и Совету министров Временного Сибирского правительства. Об этом убедительно свидетельствовали резолюции различного рода организаций торгово-промышленных кругов Сибири, а также съездов, конференций и совещаний, которые они провели в июне – начале июля 1918 г. на освобожденной от большевиков территории Сибири.
Для расширения и упрочения своей социальной опоры, а также усиления легитимности Совет министров Временного Сибирского правительства срочно предпринял ряд мер. Первоочередной из них являлось исправление ошибки о недопущении цензови-ков в областную думу. Еще 28 июня 1918 г. на совместном совещании министров и председателя думы И. А. Якушева было признано недопустимым представительство во Временной Сибирской областной думе от советов рабочих и крестьянских депутатов, но одновременно принято решение расширить ее состав за счет профессиональных рабочих и крестьянских организаций, а также представителей цензовых элементов. Затем дважды – 30 июня и 5 июля 1918 г. – аналогичное решение принимал Совет министров. Седьмого июля в согласии с председателем думы и Частным совещанием ее членов Совет министров постановил внести во Временную Сибирскую областную думу законопроект о пополнении ее состава представителями биржевых обществ городов, областных и губернских объединений золотопромышленников, углепромышленников, пароходовладельцев, лесопромышленников, рыбопромышленников, мукомолов, коннозаводчиков, скотопромышленников, кожевенников и общества фабрикантов и заводчиков.
Еще одной важной мерой, предпринятой Советом министров, стало обнародование и разъяснение своей политической платформы, направленной на создание широкой коалиции с участием цензовых элементов, перед населением Сибири. В этом отношении важнейшее значение имело участие министров Временного Сибирского правительства на двух мероприятиях: на объединенном заседании 4-го войскового круга Сибирского казачьего войска, 4-го областного крестьянского съезда и епархиального съезда духовенства и мирян Акмолинской области, которое состоялось 9 июля 1918 г., и на съезде торгово-промышленных организаций Сибири. На первом мероприятии присутствовал в полном составе весь Совет министров Временного Сибирского правительства, а с речью выступил сам П. В. Вологодский.
Торжественное открытие Сибирского торгово-промышленного съезда состоялось 14 июля 1918 г. в помещении Омской биржи. На нем присутствовали П. В. Вологодский, управляющий министерством торговли и промышленности П. П. Гудков, управляющий министерством продовольствия Н. С. Зефиров, товарищ министра финансов Н. Д. Буяновский, начальник штаба Западно-Сибирской отдельной армии генерал-майор П. П. Белов, командующий II Степным Сибирским армейским корпусом генерал-майор П. П. Иванов-Ринов, представители Чехословацкого корпуса и многие другие гости. П. В. Вологодский произнес перед участниками съезда приветственное слово. Но главную речь Совет министров поручил сказать Г. Б. Патушинскому.
Такой выбор был не случайным, поскольку лучшего докладчика от Совета министров для этой аудитории не существовало. Григорий Борисович, которому к тому времени исполнилось 45 лет, был коренным сибиряком и происходил из известной купеческой семьи. После завершения обучения на юридическом факультете Императорского Московского университета Г. Б. Пату-шинский несколько лет служил в судебном ведомстве. Выйдя в 1904 г. в отставку, вступил в присяжные поверенные Иркутской судебной палаты. Григорий Борисович выступал в качестве защитника на нескольких крупных политических процессах, прошедших в Восточной Сибири в 1905–1907 гг. Особую известность ему принесло участие в руководимой А. Ф. Керенским адвокатской комиссии по расследованию Ленских событий 1912 г. В результате Григорий Борисович вполне заслуженно приобрел репутацию одного из лучших ораторов Сибири.
В начале Мировой войны Г. Б. Патушин-ский добровольно вступил в армию, в качестве офицера 19-го Сибирского стрелкового полка отправился на фронт и участвовал в боях, был ранен и контужен, что не позволило ему продолжить армейскую службу. За боевые отличия он был награжден орденами до Св. Владимира IV степени с мечами и бантом включительно.
Летом 1917 г. Временное правительство назначило Г. Б. Патушинского прокурором Красноярского окружного суда. Одновременно Григорий Борисович вел большую общественную работу: он являлся делегатом сибирских областных съездов, прошедших в Томске в октябре и декабре 1917 г., был избран членом Временного Сибирского областного совета, депутатом Временной Сибирской областной думы. В ночь на 26 января 1918 г. он вместе с двумя десятками членов и сотрудников думы был арестован томскими большевистскими властями и заключен в Красноярскую тюрьму, откуда освободился только четыре с половиной месяца спустя. На нелегальном заседании части членов Временной Сибирской областной думы, прошедшем в Томске в ночь на 29 января 1918 г., Г. Б. Патушинский был заочно избран министром юстиции Временного Сибирского правительства.
Торгово-промышленники, собравшиеся на Омской бирже, знали Г. Б. Патушинского как выходца из купеческой среды, видного общественного деятеля, защитника интере- сов Сибири и подлинного российского патриота, борца с царизмом и противника большевиков. Григорий Борисович тем более хорошо знал аудиторию, в которой ему предстояло выступать. Поэтому его речь была предельно откровенной и жесткой.
Местная беспартийная газета «Омский вестник» 21 июля 1918 г. так откликнулась на это событие: «[…] На торгово-промышленном съезде г. Патушинский от имени [Временного Сибирского] правительства мужественно бросил в глаза политически наивным участникам этого съезда самую подлинную правду.
За всю многоглаголивую русскую революцию более искренней речи от представителя правительства, подобно речи г. Пату-шинского, как будто бы невозможно и припомнить. Обычно все революционные – как правительственные, так и оппозиционные – ораторы выходили на кафедры всякого рода общественных съездов и собраний только для срывания шумных аплодисментов. Политически наивных, их нисколько не смущала вся дешевизна этих аплодисментов. И только [Временное] Сибирское правительство в лице Г. Б. Патушинского вполне правильно оценило всю дешевизну этих аплодисментов и оваций.
Ошарашенные этой речью, торгово-промышленники, запутавшиеся в избитых политических лозунгах, […] не могли, конечно, не только оценить, но даже и просто понять всей политической глубины неожиданно искренней и правдивой речи представителя правительства».
Атмосферу, воцарившуюся в зале Омской биржи после выступления Г. Б. Пату-шинского, новониколаевская газета «Народная Сибирь» 26 июля 1918 г. описала так: «Министр юстиции закончил свою речь и, при глубоком молчании больше половины съезда и части аплодирующих на последних скамьях, сошел с кафедры и удалился из зала».
Судя по реакции аудитории, речь Г. Б. Па-тушинского не убедила большую часть составлявших ее торгово-промышленников. Они не намеревались идти на компромисс с Временным Сибирским правительством и откликнуться на его предложение принять участие в работе Временной Сибирской областной думы. Последнее означало, что коалиция областников и цензовых элементов для совместной борьбы с большевиками оставалась под большим вопросом.
Речь министра юстиции Г. Б. Патушинского, произнесенная на торгово-промышленном съезде г. Омск, 19 июля 1918 г.
Г. Б. Патушинский, встреченный аплодисментами:
Я очень тронут, г. г., Вашим приветствием, но скажу откровенно, предпочел бы, чтобы Ваши аплодисменты сопровождали меня в тот момент, когда после своей речи я буду сходить с этой кафедры, ибо боюсь, что в моих словах Вам может порой послышаться и горечь упрека и властность требований.
Г. г., кто знаком с историей Сибири, тот не может не знать, какую громадную роль играло купечество в историческом процессе расширения ее территории на восток и север, в укреплении начал Российской государственности и в культурном развитии страны. Первыми, указавшими путь в Сибирь и открывшими ворота к ней, были вычегодские солепромышленники.
И не только инициативой и денежными средствами, не только как предприниматели, финансировавшие экспедиции, но и как непосредственные участники походов, в самом авангарде первых завоевателей Сибири, плечом к плечу с казаком и ратными людьми шли купцы, подвергаясь всем превратностям боевой жизни и погибая зачастую от холода, диких зверей или отравленной стрелы воинственного туземца.
В начале восемнадцатого века, когда Русское правительство обратило свои взоры на морские пути, и стремление к открытому морю встало перед ним как величайшая государственная задача, на помощь государству снова пришел смелый до дерзости частный почин промышленника.
«Морская промышленность, – говорит историк Сибири Словцов 1, – требовавшая равномерно знания и капитала, напутствуемая отважным духом, как тайным гением, подарила Сибири неожиданные открытия. Она открыла дивное свое мореходство то к историческому острову, на котором уже побелели кости бессмертного Беринга, то к островам волосатых айнов» 2.
Купцам Серебренникову, Наводчикову, Никифору Трапезникову, Андриану Толстых мы обязаны открытием гряды Алеутских островов. Пусть говорят, что их, как аргонавтов, манило золотое руно, но история свидетельствует об опасностях, которым они подвергались на своих утлых шитиках и ботах, о погибших состояниях, о подвигах самопожертвования. Тот же Никифор Трапезников, предприимчивый и счастливый мореход, в конце концов потерял все свое состояние и умер бедняком. Тот же Емельян Югов, вышедший в 1750 году из Камчатки в море и потерпевший аварию, не побоялся отправиться на следующую же весну в новую экспедицию, из которой ему уже не суждено было вернуться: он погиб там же, где погребен Беринг. Пять лет спустя другой купец, Никита Шалауров 3, предпринимает путешествие с Лены вокруг Чукотского полуострова до Камчатки. Судьба его та же. На высокой горе, господствующей над устьем Колымы, возвышается пирамидальный маяк в двадцать пять фут[ов] вышиною с крестом и надписью: «Шалауров 1762 года». Убит ли был Шалау-ров чукчами, замерз ли он среди льдов, история нам этого не говорит. Но в синодике отважных мореплавателей должно быть занесено и имя этого скромного купца.
Кто из Вас, господа, не слышал об участии известного золотопромышленника Сибирякова в экспедиции Норденшильда[?] 4. Кто не знает о его щедрых пожертвованиях и неоценимых услугах, оказанных им делу полярных изысканий[?].
В области просвещения, общественной благотворительности и культурной работы сибирское купечество дало ряд имен, пользующихся всеобщим уважением. Здесь, в Томске, в Иркутске, в каждом большом сибирском городе, также в далеком Нерчинске, Вы найдете живые свидетельства благородной инициативы и просвещенной щедрости сибирского купца: учебные заведения, народные дома, библиотеки, дома призрения, больницы. Я назову Вам сейчас одно имя, которое пользуется известностью всероссийской, а по заслугам имеет право и на мировую известность. Я назову Юлию Ивановну Базанову 5. Мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что в щедрости с ней не могли сравниться ни московский [Г. Г.] Солодовников, ни американский Карнеджи 6, ибо если первый пожертвовал все свое состояние на дело бла- готворительности своим предсмертным распоряжением, а второй жертвует на устройство университетов суммы хотя и колоссальные, но все же являющиеся лишь частью его баснословного богатства, то Юлия Ивановна отдала все, что она имела, и сделала это еще при жизни, не сохранив для себя даже того особняка, в котором жила.
Припоминаю слова нашего маститого основоположника, отныне Почетного гражданина Сибири Григория Николаевича Потанина 7. Когда в одном частном разговоре ему сказали, что злостные политические интриганы, превратно толкуя его выступление, не остановятся перед тем, чтобы объявить его прислужником буржуазии, Григорий Николаевич после короткой паузы своим по обыкновению тихим и задушевным голосом ответил: «Нет, прислужником буржуазии я никогда не был, но другом ее был и останусь всегда; буржуазия у нас просвещенна и интеллигентна». Словами высокочтимого Григория Николаевича определяется и отношение Временного Сибирского правительства к торгово-промышленному классу. Наше доброжелательство к Вам, господа, есть не только ясно сознаваемая государственная необходимость, но и долг исторической признательности.
Я менее всего склонен в настоящий момент петь кому бы то ни было дифирамбы, но не могу не вспомнить, что торгово-промышленный класс проявил инициативу и в создании сибирской власти. В конце ноября прошлого года, когда на Сибирь надвигалась с запада грозовая туча большевистской тирании, анархии и красного террора, организационное бюро по созыву торгово-промышленного съезда Енисейской губернии заявило Временному Сибирскому областному совету 8 о необходимости немедленного созыва чрезвычайного съезда для организации центральной общесибирской власти. Среди присутствующих я имею удовольствие видеть двух членов этого бюро: Гавриила Александровича Маркова 9 и Владимира Петровича Серебрянникова, подписавших вместе со мной и другими членами бюро телеграмму на имя Временного [Сибирского областного] совета. Чрезвычайный [Все]сибирский съезд, как Вы знаете, был созван в г. Томске 6-го декабря [1917 г.]
Я подхожу сейчас к особенно острому вопросу, служившему и до сих пор являющемуся источником многих недоразумений большой страстности и горячих нареканий… Чрезвычайный Всесибирский съезд отверг участие цензовых элементов как в своих работах, так и в будущем государственном строительстве Сибири. На протяжении десятидневных занятий съезда происходила страстная борьба двух течений: государственного и утопического. Первое течение было представлено объединенной группой представителей кооперативов, некоторых земств и городов, профессуры и областнических организаций. Левое крыло съезда вели те, которые в тот момент если и не принадлежали к партии большевиков, то все же не были свободны от некоторого уклона в сторону большевизма. Соотношение сил было таково, что правое крыло располагало всего только одной третью голосов.
Таким соотношением сил, естественно, был предопределен и результат борьбы: цензовые элементы были эксфенестрированы, попросту говоря, им было указано на дверь. Было создано однородно-социалистическое правительство в лице [Временного] Сибирского областного совета. Что оставалось делать нам после того, как мы исчерпали все средства удержать большинство от гибельной, как нам казалось, ошибки? Уйти? Уйти, чтобы после съезда, с которым была связана последняя надежда на спасение страны, осталось пустое место? Уйти, не создав организации, которая могла хотя бы попытаться противодействовать надвигающейся анархии с запада и предотвратить оккупацию с востока?
Сознание своего долга перед родиной заставило нас остаться. Мы объявили себя правительством. Мы приступили к организационной работе, разослали повсюду комиссаров, прилагали все старания, чтобы приостановить дальнейшую разруху железнодорожного транспорта, оживить товарообмен, продвинуть с Дальнего Востока грузы, чтобы утолить товарный голод и дать крестьянам сельскохозяйственные машины, чтобы предотвратить голод настоящий.
В то же время мы завязывали связи с союзными державами, с одной стороны, и с находившимися на германском фронте нашими сибирскими частями – с другой. Под угрозами слева и под яростное глумление справа, обстреливаемые с обоих флангов сибирской общественности, мы делали невероятные усилия, [чтобы] спасти страну. Что это было за время! Одни нас называли приспешниками буржуазии и грозили смести с лица земли, другие издевались над нами. Люди, претендующие на государственный разум, «цвет интеллигенции»,
«мозг общества», саботировали, глумились, клеветали. И когда у них, у этих строгих блюстителей парламентских приличий, не хватало достаточно сильных выражений, чтобы пустить по нашему адресу, они заимствовали крылатые словечки из большевистского лексикона.
Я никогда не забуду, как Томская городская дума, сама уже полузадушенная большевиками, прежде чем испустить окончательно дух, бросила нам под ноги камень, отклонив «по принципиальным соображениям» наше предложение избрать депутатов в [Сибирскую] областную думу. Этот предсмертный жест [городская] дума сделала при трогательном согласии большевиков и... кадет[ов]. Какое это было время!
Я не хочу рисоваться перед Вами, но скажу Вам с полной искренностью, что когда после двухмесячной работы в таких поистине каторжных условиях мы оказались в Красноярской тюрьме, мы там отдохнули душой... (возглас с места: «Буржуи и в тюрьме не отдыхали»). Полагаю, что режим в большевистских тюрьмах был для всех одинаков. Если же Вы, находясь в тюрьмах, не испытали той сладости покоя, то это объясняется именно тем, что Вы не испытали и того, о чем я только что говорил. В ночь на 26 января [1918 г.] по распоряжению советской власти Сибирская областная дума была разогнана; часть депутатов и некоторые члены правительства арестованы и заключены в тюрьму.
Прерву ненадолго историческую последовательность изложения и скажу: да, Чрезвычайный сибирский съезд совершил в отношении Вас акт классовой несправедливости. Но разве Вы сами и Ваши идеологи всегда и во всем справедливы? Я не могу до сих пор отделаться от впечатления, которое произвели на меня Ваши речи на первом торжественном заседании съезда, на которое Вам угодно было почтить меня своим приглашением. В этих речах звучали горячие и искренние восторги перед боевыми подвигами нашей юной Сибирской армии, отдавалась должная дань признательности нашим друзьям чехословакам, отмечались и -должен сказать - по справедливости отмечались высокие заслуги командного состава и отдельных его представителей. Но никто ни звуком не обмолвился ни о Сибирской областной думе, ни о тех самоотверженных людях, которые, рискуя всем, даже жизнью своей, организовали восстание, стали во главе его и, когда на значительной части сибирской территории власть насильников была свергнута, приняли временно, впредь до прибытия сюда правительства, тяжелое бремя первоначального устроения гражданственности на оставленных вандалами развалинах.
Ретроспективный взгляд на события совершенно извращен. И если бы будущему историку Сибири вздумалось описывать майский переворот [1918 г.] по Вашим речам, то получилось бы, что переворот произошел так как-то, сам собой, без всякой предварительной подготовки, путем исключительно выступлений местного характера и привходящего счастливого обстоятельства в виде чехословацкого выступления, но без какого-либо объединяющего все это движение лозунга, словом, так, как в истории не происходило еще ни одного переворота.
Но ведь Вы, господа, знаете, что это было совершенно иначе. Как бы Вы мало ни интересовались областничеством, деятельностью Сибирского областного совета и всеми последовавшими после нашего ареста событиями, Вы, однако же, теперь, после победы над большевистской властью, не можете не знать, что знаменует собой бело-зеленое знамя, развивавшееся даже над этим зданием, по крайней мере, в первый день Вашего съезда. Под этим знаменем автономной Сибири был совершен переворот. Этого факта ни Вы, господа, и никто другой из истории не вычеркнет, как не вычеркнуть никому из признательной памяти потомства заслуг и самоотверженной работы уполномоченных [Временного] Сибирского правительства 10. Это они добыли нам свободу!
Правда, в различных городах были отдельные военные добровольческие группы, созданные накопившимся против большевистского террора озлоблением, имелась налицо, так сказать, боевая энергия. Но группы эти были разрознены, а боевая энергия пребывала в состоянии потенциальном. Должна была явиться единая воля, чтобы вызвать к деятельности местные организации. Не доставало единого центра, вокруг которого могли бы объединиться все еще не окончательно задушенные пролетарской диктатурой живые силы страны.
Вы, господа, требуете справедливости к себе. Будьте же сами справедливы и признайте, что если уже на громадном теперь пространстве Сибири, а частью и за Уралом, советская власть уничтожена, если законность и правопорядок восстановлены, если личность и ее пра- ва больше не попираются, если из Вас теперь не выколачивают контрибуций и Вы не сидите в тюрьмах, если Вы имеете возможность собираться и обсуждать не только Ваши профессиональные нужды, но и вопросы государственные, если в стране снова ожила свободная печать и вновь звучит свободное слово, то этим всем мы обязаны прежде всего Сибирской областной думе, волею которой был совершен переворот, а потом уполномоченным правительства, организовавшим восстание... (Возгласы с мест: «Какой областной думе... однобо-кой[?]»).
О том, какая эта дума, я буду еще говорить. Теперь же прошу г. председателя разрешить мне небольшой перерыв.
После 15-минутного перерыва Г. Б. Патушинский продолжает свою речь:
В перерыве мне пришлось слышать замечание, что я умаляю роль тех военных группировок, которые имелись в городах, где не существовало тайных правительственных организаций. Говорят, что я в своей речи как бы не учитываю значение чехословацкого движения. Позволю себе заметить, что эти упреки несправедливы. Я не призван производить сравнительную оценку и определять степень участия в восстании тех или иных боевых единиц. О том, что такие единицы, не связанные до известного момента с правительственными военными организациями, существовали, я уже говорил. Но указывал и на то, что для вовлечения таких сепаратных группировок в единое боевое русло необходима была объединяющая сила, единый вдохновляющий лозунг, единое знамя. И Вы знаете, что еще до переворота все эти местные военные организации слились в одну Сибирскую армию, стали под одно общее командование. Я имел сегодня истинное удовольствие присутствовать при появлении в этом зале нашего доблестного командующего юной Сибирской армией генерала Гришина-Алмазова 1 1. Энтузиазм, с которым Вы его встретили, свидетельствует о Вашей любви и доверии к нему. Спросите же его, первого генерала сибирской службы, командующего Сибирской армией, главу военного министерства. Пусть он Вам расскажет о том периоде подпольной работы, когда он, рискуя ежеминутно своей головой, создавал эту армию. Пусть он скажет Вам, чьим именем велась эта работа. Пусть он назовет Вам тех, кто рука об руку с ним вел ее.
Нужно плохо разбираться в самых простых вещах, чтобы не оценить той огромной услуги, которую оказали делу освобождения Сибири славные чехословацкие полки. Но нужно совершенно ничего не понимать, чтобы думать, что чехословацкое движение могло придти нам на помощь само собой, не будучи ничем, ничьей организационной работой связанным с нашим местным движением и собственными нашими политическими задачами.
Теперь я должен говорить о предстоящем в ближайшее время созыве Сибирской областной думы. Не скрою от Вас, что к этому меня вынуждает та кампания, которая открыто ведется и в прессе, и здесь, в стенах этого зала, против высшего законодательного органа, являющегося источником власти Временного Сибирского правительства. Вас хотят толкнуть на путь бойкота областной думы, хотят заставить повторить ту ошибку, которая некогда была совершена известными общественными элементами по отношению к первой Государственной думе. Быть может, я со своими предупреждениями уже опоздал. Но все равно. Правительство должно высказать Вам свой взгляд... (В зале шум, возгласы с мест).
„.а Вы, господа, должны меня спокойно выслушать. Это элементарное требование не только строго парламентаризма, но даже самой скромной, уездной, так сказать, общественности. Выслушайте, потом можете возражать. Я вправе этого требовать от Вас не только как представитель правительства, но и как всякий рядовой оратор, завладевший кафедрой не насилием. Прошу Вас, г. председатель, дать мне возможность исполнить до конца возложенную на меня Советом министров обязанность. (Председатель: «Меры мною принимаются. Прошу, господа, успокоиться и выслушать г. министра»).
Сибирская областная дума созывается распоряжением ее председателя И. А. Якушева 12 в полном согласии с Советом министров.
Едва были опубликованы соответствующие акты, как в Совет министров поступила докладная записка представителей групп С.-Р. оборонцев, Тр. Н.-С. и С.-Д. единство, вступивших в блок 13. Записка эта довольно обширна и, как мне кажется, содержит в себе все, что при известном недоброжелательном отношении к Сибирской областной думе можно было сказать против ее созыва. Поэтому я считаю нужным подробно остановиться на всех приведенных блоком соображениях.
Первое соображение сводится к тому, что чрезвычайные обстоятельства момента и исключительное положение страны требуют от правительства максимума твердости и определенности, каковые качества, по мнению авторов записки, Временное Сибирское правительство может проявлять только будучи «властью самодовлеющей, независимой от чьего бы то ни было доверия или недоверия». Вы видите, господа, нас совершенно откровенно приглашают вступить на путь диктатуры, личной политики и, скажу прямо, авантюризма. Заявляю решительно: Временное Сибирское правительство на этот путь никогда не станет, какие бы силы, с какой бы стороны его туда ни толкали. (Возгласы с места: «Ради спасения родины»).
Вот именно, господа, ради спасения родины, ради ее свободы, целостности и счастья мы этого не сделаем. Поймите, господа, что теперь, когда на власть в стране стали смотреть как на бесхозяйственную, вывалившуюся из чьих-то рук вещь, которая может стать собственностью всякого, кто ее подберет, когда к власти со всех сторон тянутся жадные руки узурпаторов и авантюристов, мы, члены Временного [Сибирского] правительства, можем чувствовать себя сильными в предстоящей нам борьбе с захватническими поползновениями и можем не на словах, не на клочке вот этой бумаги, а на деле проявлять максимум твердости и определенности только тогда, когда мы сохраним связь с областной думой, из недр которой мы вышли… (Возглас с места: «А Керенский 14») …о Керенском потом.
Во втором пункте докладной записки содержатся упрек областной думе в однобокости ее состава и [выражается] опасение, что ввиду такой однобокости думы всегда возможны коллизии с ней Временного Сибирского правительства, которому придется в случае таких коллизий уйти или, как выражаются авторы, «выронить власть».
Однобокость областной думы вне всякого спора, но опасения коллизий мне кажутся совершенно не основательными. То, что являлось как бы органическим пороком областной думы, «однобокость» ее состава – подлежит исцелению. Коррективы возможны, и они уже вносятся. Вам, конечно, известно правительственное сообщение от 7-го июля. Вам известно, что первым законопроектом, который Временное Сибирское правительство внесет в областную думу, будет законопроект о пополнении состава думы представителями цензовых элементов. Допущенная Чрезвычайным Всесибирским съездом государственная ошибка и классовая несправедливость ныне исправляется. В областной думе будут представлены все группы и классы населения. Исчезнет однобокость, отпадет и опасение конфликтов между думой и правительством.
Другой корректив, пожалуй, самый целительный и действительный – это жизнь, влияние которой Вы можете наблюдать на себе и на окружающих.
Вы не можете отрицать, что с декабря прошлого года по настоящий момент в политическом сознании всех без исключения общественных группировок и партий произошел громадный сдвиг. Жизнь изменила свое лицо, и мы уже не те, какими были шесть – семь месяцев тому назад. Не теми уже стали и многие из «левых», когда-то непримиримых членов областной думы. Не ошибусь, если скажу, что если бы Чрезвычайный Всесибирский съезд происходил не в декабре 1917 года, а в июне настоящего года, то вопрос об устранении цензовых элементов на нем даже и не поднимался бы. До такой степени в настоящих исторических условиях является бесспорной необходимость общенародного единения в деле государственного строительства.
Это не беспочвенное предположение, господа, а глубокая моя уверенность, основанная, между прочим, и на следующих фактах. Уже в последних числах января, то есть всего через каких-нибудь два месяца после Чрезвычайного съезда, созванная им областная дума, та самая «левая» дума, которая Вас пугает, избирая правительство, включила в состав его инженера путей сообщения Устругова 15, Ивана Адриановича Михайлова 16 и Валерьяна Ивановича Моравского 17, хотя эти три лица ни к одной из социалистических партий не принадлежали и не принадлежат. Не правда ли, господа, не так уже страшна эта «левая» дума?
А проявленному социалистами в этом случае пониманию государственных задач следует многим поучиться. Это было в конце января, а в июле Совет министров изготовляет законо- проект о пополнении состава Сибирской областной думы, действуя, как значится в правительственном сообщении, в согласии с председателем Сибирской областной думы и частным совещанием членов той же думы 18. Согласитесь, господа, что этот бланк, который частное совещание депутатов и в особенности председатель думы как выразитель господствующего в ней течения положили заранее на нашем законопроекте, служит достаточным ручательством безболезненного прохождения его через законодательную палату. Вот почему Совет министров имел возможность с такой уверенностью заявить в правительственном сообщении о том, что Сибирская областная дума, имея в виду необходимость объединения в данный грозный момент всех групп и классов населения, примет целиком этот законопроект. Вот почему, не опасаясь политического скандала, Временное [Сибирское] правительство приглашает теперь же все упомянутые в законопроекте организации избрать кандидатов в члены Сибирской областной думы и, снабдив их мандатами, направить в гор. Томск. Мы не видим поводов к конфликтам с областной думой, а наш здоровый оптимизм покоится на реальной почве точных, неоспоримых и весьма показательных фактов.
«Сибирская областная дума, - читаем мы далее в докладной записке, - как организованная согласно идее единого демократического фронта от Н.-С. до большевиков включительно, была рассчитана главнее всего на советское представительство»... (Громкие аплодисменты. Крики: «Правильно, браво, браво»).
Когда я буду иметь случай встретиться с авторами этой докладной записки, я не премину передать им Ваше приветствие, а теперь, господа, позвольте мне продолжать. Дело в том, что формула конструкции сибирской власти приведена здесь с неким усечением. После слов «до большевиков включительно» в постановлении Чрезвычайного съезда идет фраза: «...если они, т. е. большевики, стоят на платформе Чрезвычайного съезда». А эта платформа, господа, заключает в себе и защиту Всероссийского Учредительного собрания, и верность договорным обязательствам в отношении наших союзников и многое другое, что на языке большевизма именовалось буржуазными предрассудками.
Вы видите, что условием для вступления большевика в ряды Сибирского правительства являлось отречение его от всех догматов большевизма. «Цензовые элементы, - пишут авторы записки, - в областную думу допущены не были, а теперь они, надо полагать, туда не пойдут...» (Взрыв аплодисментов. Крики: «Верно, правильно, не пойдем»). Я уже заявлял Вам, что о Вашем сочувствии авторам записки я им сообщу. Прошу Вас не мешать мне Вашими демонстрациями. Полуторагодовой опыт непрерывного всероссийского митинга показал, что нет ничего легче, как срывать аплодисменты аудитории: для этого нужно только говорить с ней языком угодничества и лести. У меня такого языка нет ни для Вас, ни для кого другого. Я не ищу Ваших одобрений, но требую внимания. Продолжаю. Докладная записка как бы предвосхищает Ваше решение бойкотировать областную думу; решение, по-видимому, уже принятое Вами теперь. Вы говорите, что не пойдете в областную думу. Ну что же, Временное Сибирское правительство Вас не объявит за это саботажниками и не засадит в тюрьмы. Вы отказываетесь от исполнения Вашего гражданского долга, отказываетесь от участия в государственном строительстве страны. Мы об этом искренне жалеем, а история Вас, быть может, сурово за это осудит.
В четвертом и последнем пункте докладной записки нам рекомендуют поучиться государственной мудрости у правительства Керенского, «которое вышло из недр Государственной думы, но не дума, а Временное правительство представлялось настоящей суверенной государственной властью впредь до Учредительного собрания». Ссылка на исторический прецедент, конечно, весьма уместна и поучительна, но только выводы из этого исторического урока надлежит, как мне кажется, сделать как раз обратные тем, какие делают авторы докладной записки. Кто знает, докатились ли бы мы до пролетарской диктатуры и довелось ли бы матросу [А. Г. Железнякову] разгонять Всероссийское Учредительное собрание, если бы правительство Керенского оставалось лояльным к Государственной думе. Если Вы, господа, пороетесь в старых газетах, хотя бы кадетской окраски, то Вы найдете там немало доводов в пользу того, что изначальной ошибкой правительства Керенского был именно роспуск Государственной думы. И все последующее, вплоть до окончательного падения в пропасть и Временного российского правительства, и всего государства, явилось неизбежным следстви- ем все той же, мягко выражаясь, политической ошибки. Почему же Вы теперь желаете заставить нас повторить ее?
Последним актом исторической миссии областной думы авторы докладной записки признают образование Временного Сибирского правительства. Но, господа, Вы при каждом удобном случае заявляете, что Сибирская областная дума не является выразительницей общесибирской воли. Будьте же по крайней мере последовательны и, отвергая законность происхождения областной думы, возьмите на себя смелость не признавать и нас…
(Член президиума Вытнов 19: «Нет, зачем же. Мы правительство признаем… с персональными изменениями»).
С персональными изменениями Вы говорите? А кто дал право Вам или какой-нибудь другой общественной группе или классу производить персональное изменение в составе правительства, избранного, как ни как, представителями от всех городских и земских самоуправлений, от Владивостока до Челябинска, крестьянскими объединениями, казачеством, кооперативными организациями, охватывающими, как Вам небезызвестно, всю экономическую, хозяйственную и отчасти культурную жизнь многомиллионного сибирского крестьянства, и, наконец, представителями всех туземных народов Сибири? Вы, Ваши делегаты, весь торгово-промышленный класс не был представлен в областной думе. Мы этот пробел сознавали, сознаем и, как видите, желаем восполнить. Но и с этим пробелом, можно смело сказать, что за все существование Сибири население ее ни разу не было так относительно полно представлено, как на Чрезвычайном съезде и в Сибирской областной думе. Возможно ли допустить, чтобы по произволу какой-нибудь отдельной группы или класса, хотя бы то был такой влиятельный в хозяйственно-экономической жизни страны класс, как торговопромышленный, допустимо ли, спрашиваю я Вас, соизволением, прихотью, капризом такой случайной группировки производить персональное изменение в составе правительства? Конечно, в революционном порядке, путем насилия можно создать какое угодно фактическое состояние и организовать какую угодно власть. Но дни такой власти будут не долги. Завтра же явится другая общественная группа или какой-нибудь наглый авантюрист и произведет новые «персональные» изменения. Вы этого хотите? Вы хотите вернуть Сибирь в состояние анархии и сделать ее ристалищем политических проходимцев? Вам указывают иной путь. Вас зовут в Сибирскую областную думу.
Я не знаю, как продолжительна будет предстоящая сессия думы. Этот вопрос решится ее верховной волей. Но если Вы политически воспитаны, государственно мудры, идите в думу, добивайтесь там влияния, и когда по условиям исторического момента дума найдет, что необходимо развязать правительству руки, она может сама ограничить свою работу тремя высокой исторической важности актами. Она примет закон о пополнении ее состава, переизберет правительство и утвердит положение о выборах во Всесибирское Учредительное собрание, назначив для созыва его кратчайший срок. Но лишь дума, только она одна вправе это решить.
В заседании 15 июля г. Жардецкий 20 усиленно призывал Вас к бойкоту областной думы. Передо мной № газеты «Сибирская речь» 21, где речь г. Жардецкого воспроизведена в общих чертах. Вы сами понимаете, что я не стал бы касаться речи г. Жардецкого, ибо для выявления моих с ним политических разномыслий я нашел бы другое время и другое место. Но в том же отчете имеется сообщение, что Ваш съезд постановил выпустить стенограмму речи Жардец-кого отдельным изданием. А это, согласитесь, уже меняет дело. Мне приходится считаться с соображениями г. Жардецкого не только как с соображениями лица, просто интересующегося политикой, по существу безответственного, но как с такими соображениями, которые уже получили Вашу апробацию и должны лечь, а может быть уже легли в основание Вашего решения.
Позвольте в таком случае заявить Вам, что выражение «никаких совдепов, никаких кре-депов, никаких областных дум, никаких предпарламентов быть не должно», что такое выражение недопустимо в речи, выпускаемой отдельным изданием по постановлению общественного съезда, не раз заверявшего правительство в своей лояльности. В декларации Временного Сибирского правительства от 4-го июля 1918 года торжественно объявлялось во всеобщее сведение, что ныне одно [Временное] Сибирское правительство вместе с Сибирской областной думой является ответственным за судьбы Сибири. И Вы, господа, призы- вающие твердую власть, требующие от нас немедленного выявления этой твердости, Вы, вместе с г. Жардецким, посягаете на достоинство и авторитет высшего государственного учреждения. Неужто же твердость власти мыслится Вами в виде скорпионов и бичей, направленных только влево?!
В заключительной части своей речи г. Жардецкий предостерегает Вас от «увлечения областничеством, программа которого заключается в четырех словах: «Сибирь, Сибирь űber alles» 22. Много несправедливых обвинений выпало на долю сибирского областничества. Некоторым из Вас, быть может, небезызвестно, что полвека тому назад наши великие патриоты и учителя Григорий Николаевич Потанин и покойный Николай Михайлович Ядрин-цев 23 были обвинены в сепаратизме и заплатили за свою любовь к Сибири долгими годами тюрьмы и ссылки. И позднее не раз и в самое последнее, уже пореволюционное время, нам приходится слышать и справа и слева от врагов и, что греха таить, и от друзей обвинения в сепаратизме, в отсутствии любви к Великой России, в желании разделить ее на куски. И даже большевики, даже те, кто действительно разодрали великую державу на клочья и предали врагам, и те были в свое время страшными централистами. Но Вы не найдете ни одной резолюции областнического собрания, съезда или кружка, ни одного произведения, вышедшего из-под пера областника-писателя, где бы не подчеркивалась та мысль, что областничество с сепаратизмом не имеет ничего общего и что в будущем мы мыслим себе нашу родину-Сибирь как автономную, обладающую собственным законодательным органом и правительственным аппаратом, но остающуюся в неразрывной связи с Европейской Россией областью.
Г. Жардецкий пошел дальше наших старых обвинителей. Он приписывает нам германский империалистический лозунг «űber alles», уверяя Вас, что в этом вся программа областничества. По-видимому, г. Жардецкий не знаком ни с программой областничества, ни с декларацией Временного Сибирского правительства о государственной самостоятельности Сибири, ни с политикой Совета министров, уже достаточно определившейся в настоящее время. Я, конечно, не смею требовать, чтобы г. Жардецкий был знаком с работами Чрезвычайного сибирского съезда, через которые красною нитью проходит та мысль, что конечной целью областного строительства является воссоздание целого, т. е. Великой России.
Нас обвиняют в империалистических стремлениях. А вот факты. Наши сибирские войска вместе с доблестными чехословаками перешли Урал и постепенно очищают от большевиков территорию Европейской России. Освобожденные от ига узурпаторов население, общественные организации и правительственные места, города и уезды, измученные кровавой смутой и анархией, тянутся к нам, под защиту нашей с каждым днем все более и более крепнущей государственности. Мы ежедневно получаем петиции. К нам прибывают специальные депутации с просьбой о присоединении к Сибири. Всем и каждому, в письменных ответах и словесных объяснениях, в отдаваемых распоряжениях и в постановлениях Совет министров определенно заявляет, что лишь ходом военных событий территории и учреждения Европейской России временно, впредь до решения вопроса о них Учредительным собранием, подчиняются власти Временного Сибирского правительства.
И после этого Вам говорят, что у нас общий лозунг с германскими империалистами! Областничество и вообще вопросы федеративного устройства имеют огромную литературу, и мне пришлось бы слишком долго утруждать Ваше внимание, если бы я вздумал защищать перед Вами идею областничества. Да она и не нуждается в моей защите. Пусть говорят, что областничество не имеет корней в сибирском населении, что оно чуждо народу, что это затея интеллигенции. Если так рассуждать, то всякое политическое учение чуждо мирским 24 народным массам в своем научном обосновании и догматической трактовке.
Воспринимаются же политические учения массами, так сказать, под диктовку тех классовых интересов, которым эти учения отвечают. И верьте мне, господа, сибирскому крестьянину, сибирскому казаку легко раскроется сущность областничества, если только объяснить им, в чьих интересах устанавливались особые тарифные ставки на сибирское зерно, какое значение имел для него, сибирского землероба, Челябинский перелом 25, в угоду кому было закрыто порто-франко и почему так дорого приходилось деревне платить за линючие московские ситцы.
Вас, господа, пугают жупелами: областные правительства, областные парламенты, министерства. Полноте! И в Великобританских колониях, и в С[еверо]-Американских штатах существуют парламенты и министерства.
Однако же нигде так не прочна связь колоний с метрополией, как в Англии, ибо эта связь внутренняя, органическая, а не формальная, навязанная и потому ненавистная. А кто посмеет сказать, что С[еверо]-Американские штаты, эта мозаика из мелких государственных организмов, есть не единая великая держава, мощная своей государственной целокупностью и национальным единством? Вот почему и мы нисколько не противоречим идее областничества и принципам федерализма, когда говорим, что хотим видеть возрожденную Россию нераздельной и великой.
Сибирь таит не только огромные богатства в своих недрах, но и на редкость здоровые элементы в своем населении. Теперь, к сожалению, стали позабывать о тех чудесах храбрости, стойкости и самоотвержения, которым удивляли весь мир сибирские стрелковые полки в первую половину Мировой войны. Отбрасывая не раз германские штурмовые колонны от Варшавы, сибиряки дрались, как львы, и тысячами полегли на берегах Вислы, Немана и Рав-ки, отстаивая западный российский рубеж, который был для них тою же Гекубой.
Дольше других сопротивлялись яду большевистской пропаганды воинские части с чисто сибирским составом. Еще в январе месяце [1918 г.] наш военный министр, в то время комиссар всех сибирских корпусов Юго-Западного фронта полковник Краковецкий 26 успешно работал по организации и сводке в одну армию всех сибирских частей. Разгон областной думы и последовавший вскоре позорный Брестский мир помешали полковнику Краковецкому закончить эту работу. Но бесспорно установленный факт, что сибирские войска ушли с фронта последними.
И это не случайность, господа, что активная борьба с советской властью и свержение ее началось в Сибири. Жизнь сама оправдала областничество, доказав жизненность ее идей и справедливость ее государственных притязаний. Временное Сибирское правительство поставило себе грандиозную историческую задачу освободить от большевизма не только Сибирь, но и Европейскую Россию, создать государственность на своей территории и всемерно содействовать возрождению России как великой державы. Работа идет успешно, но она не доведена еще даже до половины, а между тем являются со стороны люди, берут нас под подозрение как сепаратистов, приписывают нам лозунги германского империализма и кричат «Руки прочь».
Вы знаете, господа, у некоторых родителей бывает слабость смотреть на своих сыновей как на вечных малюток. Юноша растет, как говорится, не по дням, а по часам. В его голосе уже начинают звучать басовые нотки, над верхней губой появился пушок, он уже обладает твердостью руки и меткостью взгляда, а чадолюбивый родитель все еще боится дать ему в руки ружье и заставляет практиковаться из самострела. Но вот на дом напали разбойники, семья вся в страхе разбежалась. Старик-отец лежит, поверженный бандитами, уже занесшими над ним нож. Но юноша, стрелявший до сих пор только из самострела, не растерялся, снял со стены отцовское, до тех пор запретное для него ружье и меткими выстрелами уложил наповал всех бандитов. Он спас жизнь старику-отцу и спасся сам. Неужели же и после этого старик не признает в юноше взрослого мужа и в его руках ружья, уменье владеть которым сын так доблестно доказал?
Заканчивая свою речь, я прошу Вас, господа, верить, что как бы велики не были наши политические разногласия, Совет министров все же не перестанет смотреть на торговопромышленный класс с тем уважением, какого он заслуживает.
Программа Временного Сибирского правительства совершенно ясна. Пути его вполне определенны. И нет такой общественной группы, такого класса или партии, которые бы могли увлечь правительство в ту или иную сторону с этих путей. Равным образом нет таких препятствий, преодолеть которые правительство не поставило бы себе в обязанность во имя спасения страны.
В эту минуту, когда я говорю перед Вами, там, за Иркутском, продвигаются на восток доблестные войска нашей юной армии, отбивая шаг за шагом, пядь за пядью родную cибирскую землю. На их пути, на пути их победного шествия красногвардейцы и мадьяры воздвигают всевозможные препятствия. Быть может, в эту минуту предательской рукой взрываются тоннели. Но мы знаем, что наши молодые богатыри, кровью своей добывающие свободу, сметут со своего пути все преграды. Знайте же, господа, и пусть знают все, что Временное Cибирское правительство, помня о славных подвигах своих воинов, также не потерпит на пути государственного строительства никаких препятствий и сметет все преграды, которые могут создать преступная воля или политическое легкомыслие. Мы восстановим все пути, воздвигнем новые мосты взамен разрушенных, пророем вновь тоннели и ценой неимоверных усилий, ценой жизней наших мы доведем наш государственный поезд до конечного пункта, до станции, над фронтоном которой горят огненные слова: Возрождение Великой России, свобода и счастье народов автономной Сибири и лучезарные начала народоправства.
ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 1787. Л. 1–10. Типографский оттиск.
С 1859 г. являлся вольнослушателем Императорского Санкт-Петербургского университета. В октябре 1861 г. был арестован за участие в студенческих волнениях и выслан в Сибирь. Жил и служил в Омске и Томске, занимаясь научными исследованиями и разработкой областнических идей. В 1865 г. снова арестован по делу о «сибирских сепаратистах» и в 1868 г. приговорен к пяти годам каторги с последующей пожизненной ссылкой в отдаленные местности. В 1874 г. освобожден от ссылки с правом проживать в любом городе России.
Участник Русско-японской войны, после окончания которой служил в частях ВосточноСибирского и Приамурского военных округов. В годы Мировой войны находился на фронте: возглавлял службу связи, состоял адъютантом командира 5-го Сибирского армейского корпуса, командовал батареей и мортирным дивизионом «ударников» 10-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. За боевые отличия был награжден орденами Св. Георгия IV степени, Св. Анны IV и III степени, Св. Станислава III степени с мечами и бантом, Св. Станислава II степени с мечами, а также медалями.
После Октябрьского переворота арестован большевиками и заключен в тюрьму при штабе армии, после чего был выслан в административном порядке за пределы армии. Весной 1918 г. переехал в Сибирь и под псевдонимом «Алмазов» возглавил военный штаб нелегально действовавшего ЗСК ВСП. С 28 мая 1918 г. – командующий Западно-Сибирским военным округом, с 13 июня – командующий Западно-Сибирской отдельной армией и одновременно с 14 июня – заведующий военным отделом ЗСК. С 1 июля по 5 сентября 1918 г. являлся управляющим военным министерством ВСП (с оставлением в должности командующего армией, переименованной в Сибирскую). Десятого июля 1918 г. произведен в генерал-майоры.
Адвокат, видный общественный и политический деятель. Получил всероссийскую известность как председатель адвокатской комиссии по расследованию Ленского расстрела 1912 г. В том же году был избран депутатом Государственной думы IV созыва, в которой возглавлял фракцию трудовиков. После Февральской революции являлся членом Временного комитета Государственной думы и заместителем председателя Петроградского совета. Вошел в состав Временного правительства в качестве министра юстиции. В первом и втором коалиционных составах правительства (май – сентябрь 1917 г.) занимал посты военного и морского министра, а с 21 июля – также министра-председателя и с 12 сентября – Верховного главнокомандующего.
После окончания университета был оставлен для подготовки к званию профессора по кафедре политической экономии. Во время Мировой войны заведовал Петроградским отделением экономического отдела Всероссийского земского союза. После Февральской революции служил в министерствах земледелия, продовольствия и финансов Временного правительства, управляющим делами Экономического совета Временного правительства. Автор трех книг о государственных доходах и расходах России в начале XX в. С декабря 1917 г. являлся товарищем председателя Петроградского отделения Союза сибиряков- областников. В конце апреля 1918 г. был приглашен на должность заведующего экономическим бюро при Союзе сибирских кооперативных союзов «Закупсбыт», которую занимал до 25 июня 1918 г. В ночь на 29 января 1918 г. на нелегальном заседании части членов ВСОД в Томске был заочно избран министром финансов ВСП. С 30 июня 1918 г. официально занял эту должность.
Начал службу помощником присяжного поверенного. В 1913 г. переехал в Омск. В годы Мировой войны работал в Омском и Западно-Сибирском комитетах Всероссийского союза городов, состоял присяжным поверенным. Второго марта 1917 г. был избран в состав Омского коалиционного комитета общественной безопасности. С 21 марта возглавлял Омский комитет партии народной свободы, избирался гласным городской думы. Октябрьский переворот встретил враждебно. Являлся одним из вдохновителей сопротивления 2-й школы прапорщиков установлению советской власти в Омске. После провала этой попытки скрывался, но 24 ноября 1917 г. был арестован и 22 мая 1918 г. Омским ревтрибуналом приговорен к пяти годам лишения свободы и принудительных работ. Освобожден из тюрьмы 7 июня 1918 г. после оставления Омска большевиками. После свержения советской власти отказался от предложения занять должность уполномоченного ЗСК по вопросам общественного призрения, служил юрисконсультом Омской железной дороги, председателем ЗападноСибирского областного комитета Всероссийского союза городов и возглавлял местный комитет партии народной свободы.