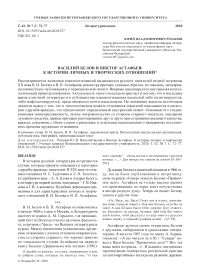Василий Белов и Виктор Астафьев: к истории личных и творческих отношений
Автор: Розанов Юрий Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 7 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается динамика взаимоотношений выдающихся русских писателей второй половины ХХ века В. И. Белова и В. П. Астафьева, реконструируемая, главным образом, по письмам, мемуарам, малоизвестным публикациям в периодической печати. Впервые анализируется внутренняя (психологическая) природа конфликта. Актуальность такого подхода возрастает и потому, что в последнее время в научной литературе и в публицистике взаимоотношения писателей либо политизируются, либо мифологизируются, представляются почти идеальными. На основании анализа источников делается вывод о том, что в типологическом аспекте отношения писателей вписываются в категории «дружба-вражда», что предполагает определенный внутренний сюжет. Основные его стадии: взаимная заинтересованность, легкое покровительство со стороны старшего писателя, ощущение духовного родства, первые признаки разочарования друг в друге при сохранении внешнего единства, вражда, сожаление с обеих сторон о размолвке и отдельные высказывания о намерениях восстановить прежние дружеские отношения.
В. и. белов, в. п. астафьев, деревенская проза, вологодская писательская организация, публицистика, биография, провинциальный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/147226623
IDR: 147226623 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.527
Текст научной статьи Василий Белов и Виктор Астафьев: к истории личных и творческих отношений
В истории русской литературы встречаются случаи, которые принято описывать в категории «дружбы-вражды» писателей. В XIX веке это взаимоотношения И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого, в Серебряном веке – А. А. Блока и Андрея Белого, в литературе первой волны эмиграции – Г. В. Иванова и Г. В. Адамовича. Подобная дефиниция применима и для характеристики личных и творческих отношений В. И. Белова и В. П. Астафьева.
поет гармонь” – очень милая и по-хорошему грустная поэмка. <…> Для начала это совсем не плохо» [4: 505– 507].
Духовная близость писателей возникла в 1966 году, когда была опубликована в петрозаводском журнале «Север» повесть Белова «Привычное дело». Астафьев не только высоко оценил это произведение, но через текст почувствовал в авторе родную душу. Теперь он пишет Белову совсем в другом тоне:
«Ох, Вася, ты, Вася! Сижу вот и плачу, дочитавши твою горькую повесть. Как мне больно, если бы ты знал! А как больно было тебе, одному Богу известно. Большого ты сердца, человек. Дай тебе Бог много дней жизни, чтоб рассказал ты еще много о русских наших людях, о горькой судьбине ихней…» [5: 59].
Астафьев делится своим открытием Белова с друзьями, сибирскими и уральскими литераторами. 8 августа 1967 года он писал А. Борщаговскому: «А вы читали ль в № 1 “Севера” повесть Васи Белова “Привычное дело”? Вот эта вещь меня потрясла…»1. В высших инстанциях произведение подверглось разгромной критике за «аптипартийные» взгляды на развитие деревни.
Осознавая истинное значение повести и особенности характера друга, Астафьев несколько менторским тоном предостерегает Белова:
«И вот о чем я тебя прошу (прошу потому, что я старше тебя на целую войну, а это много и дает мне кое-какие права, как старшему, на советы) – не заболей болезнью отринутого крамольника, не встань в позу оскорбленного дарования, а живи, как жил, и пиши, как писал, не попускаясь (так. – Ю. Р. ) ничем, но и не озлобляясь» [4: 521].
«Привычное дело» вызвало у Астафьева не только интерес к личности и духовному миру Василия Белова, но и к другим вологодским писателям, к культуре Русского Севера вообще. В 1960-х годах Вологодская область в кругах интеллигенции почиталась своеобразным заповедником «русскости». Тысячи любителей старины устремились в города и деревни Русского Севера в поисках утраченной в советские годы традиционной культуры и православной духовности. Для советских писателей была возможность совместить подобные паломничества с официозом идеологической работы. Летом 1968 года состоялся, как писали газеты, «агитационно-пропагандистский рейс писательской бригады по присухонским городам, посвященный подготовке к 100-летнему юбилею В. И. Ленина». Об этой поездке Астафьев сообщал В. Старикову:
«Ездил я в июне в Вологду… В хорошей компании – Федор Абрамов, Вася Белов, Женя Носов, Саша Романов… прокатились от Вологды до Великого Устюга на пароходике»2.
В Великом Устюге, еще не назначенном «родиной Деда Мороза», главной знаменитостью был Ефстрафий Павлович Шильниковский (1890–1980) – мастер художественного чернения по серебру. Мировая известность его работ началась еще с Всемирной выставки в Париже 1937 года. Общение с ним вызвало у Астафьева мысли о значении среды для творческого человека:
«И вот довольный всем и жалкий в этой довольно-сти, большой художник жаловался лишь на одно: “Мне всю жизнь не хватало среды. Я засох тут один”. И я понимаю его. И надумал я покинуть Урал…»3.
В конце 1968 года Астафьев извещал Белова:
«Решил я приехать к Вам, попробовать жить в исконной России. <…> Как ты на это дело смотришь? <…> Дадут ли мне квартиру в Вологде?» [4: 668–669].
Квартирный вопрос был решен оперативно, и Астафьев переехал в Вологду, началось его «вологодское десятилетие». Эпистолярные вы- сказывания писателя на вологодскую тему поначалу благостны и оптимистичны.
«Вот и выбрал я старинную Вологду, – пишет Астафьев Борщаговскому 16 марта 1969 года, – где есть друзья и еще пахнет Русью, близкой моему сердцу. Пока мне здесь хорошо. Народ тут простодушнее, добрее, и природа сохранилась, и тихо тут, неторопливо. Дали мне такую же точно квартиру, как в Перми»4.
Квартиру писателю действительно «дали», как это было принято в СССР, но без очереди, что могло быть только с санкции высшего руководства области. Именно Белов, вскоре ставший членом Вологодского обкома КПСС, ходатайствовал перед начальством о предоставлении квартиры своему другу.
Более всего Астафьев доволен вологодской культурной средой, прежде всего писателями. Своему уральскому знакомому он дает такую справку о Вологодском отделении Союза писателей:
«А в Вологде действительно очень небольшая, но крепкая и дружная организация. (На тот момент в ней состояло, вместе с Астафьевым, тринадцать человек. – Ю. Р. ) Здесь живет превосходный прозаик Вася Белов, поэт Коля Рубцов (обязательно достань в библиотеке его сборник “Звезда полей”), Ольга Фокина, Саша Романов, и много на подходе интересных парней. Они понимают хорошо, что такое работа, и сидеть за столом не мешают»5.
В письме Е. И. Носову от 20 октября 1969 возникает и лестное для города сравнение: «В Вологде я чувствую себя так, как будто из курной бани выбрался на студеный снежный воздух. <…> Все же живем мы семейно, друг друга питаем». Даже об «основной проблеме» шестидесятников писатель говорит вскользь, не придавая ей особого значения: «Выпивают ребята, конечно, но не в Союзе (то есть не в помещении отделения СП. – Ю. Р. ), и все ра-ботают»6. Было и еще одно преимущество вологодской организации перед другими региональными коллективами – в ней не было стукачей, штатных или внештатных осведомителей КГБ. Об этом щекотливом вопросе напрямую, конечно, не писали, но тема иногда прорывалась. Носов писал Астафьеву в 1971 году:
«Завидую вашему застолью, тому, как вы все собираетесь и вам не надо друг друга остерегаться (курсив наш. – Ю. Р. ) в непринужденном праздничном разго-воре»7.
Из переписки писателей-деревенщиков конца 1960-х – начала 1970-х годов следует, что в это время их занимала идея создания в Вологде, «во глубине России», неформальной литературной группы, осознающей себя как «надежда и совесть» страны. Именно в Вологде писатели могут сохранить свою независимость и идентичность. У группы много врагов, и методы их коварны. Как писал Астафьев Носову осенью 1969 года,
«ее стараются прибрать к рукам то подачками, то моралью, то запугиванием, то лаской те, кто будто бы за русский народ и кто берется говорить от его имени и хотел бы диктовать свою волю в литера-туре»8.
В обобщенный «образ врага» на тот момент входили и партийные структуры, и городские писатели прозападной ориентации, и крайние националисты из общества «Память». Причем и те и другие ассоциировались с Москвой. Еще до переезда в Вологду Астафьев писал Белову:
«Литературная обстановка в Москве очень плохая, особенно почему-то поднялась недоброжелательная волна вокруг твоего “Привычного дела”, ее уже кое-где окрестили “идейно порочной книгой”» [4: 521].
Переезд Астафьева в Вологду и его сближение с Беловым усилили позиции деревенщиков. «Вологдой, – отмечает писатель, – многие стали интересоваться, кто подозрительно, кто насмешливо, кто завистливо, кто опасливо»9. Похоже, что вологодская группа пыталась развить успех, «перетащив» в Вологду еще одного известного и перспективного писателя, давнего друга Астафьева и Белова – Е. И. Носова. Но астафьевский сценарий здесь не прошел: местные власти дали понять, что не хотят такой активности от писателей и такого явного противопоставления Москве.
В любом случае «вологодские семидесятые» для всех авторов оказались важными и плодотворными. В значительной степени была реализована еще недавно казавшаяся утопией мечта о «вологодской школе». Много лет спустя А. А. Романов, бывший в то благословенное время руководителем вологодского отделения Союза писателей, в письме Астафьеву дал и общую, и личную оценку периода:
«Годы эти оказались поистине великими для совместной работы и для совместного осознания самих себя и проклятых вопросов современности. А от себя добавил бы я еще и то, что в том “вологодском десятилетии” изначально светился некий Божественный промысел для всех нас, а для троих – Василия Белова, Николая Рубцова и тебя, – милый Виктор Петрович, еще просиял и полдень ваших трех гениаль-ностей»10.
Первые признаки начинающего разрушения вологодской идиллии, то есть той самой «творческой среды», которую так ценил писатель, в мемуарах Астафьева связываются с трагическими событиями января 1971 года – криминальной гибелью поэта Николая Рубцова. Друзья поэта остро чувствовали свою вину в трагедии. Позднее Астафьев вспоминал:
«На поминках мужики перепились, и я тоже, ревели, шумели, пытались высказываться, рвать на себе рубахи и от стыда, не иначе, сразу после похорон слиняли, разбежались по своим углам, разъехались по деревням и долго-долго не сходились вместе. С тех пор и началась отчужденность, затем и разобщение в нашей славной, братски объединенной писательской организации»11.
В письмах Астафьева мотивы недовольства вологодским окружением, которые он поначалу принимает за ностальгию по «малой родине», появляются несколько позже, в 1973 году, например в письме Н. Волокитину: «Хочется с кем-то поговорить, поболтать. А с кем? Живу я все же в чужом краю, с чужими людьми»12. При этом оценка Белова в эмоциональном плане даже возрастает. В сентябре 1974 года Астафьев с изрядной долей самоиронии пишет жене, писательнице Марии Корякиной, об иерархии современных авторов по «гамбургскому счету»:
«Нет сейчас другого такого крепкого, убористого и честного писателя, как он (Носов. – Ю. Р. ) да Вася Белов. Нету. Эстеты есть, пестрые, вроде меня, а таких, цельных и целеустремленных, – не знаю»13.
Вслед за этим подъемом в астафьевских оценках Белова наступает полоса равнодушия, отчасти напускного. В конце 1976 года он отвечает на вопрос В. Курбатова:
«Теперь о Васе Белове. Я последние его вещи не читал, но читал предпоследние… Давненько уж находится в творческом кризисе и пишет не то, что ему бог велел».
Характерно, что вину за беловский «творческий кризис» Астафьев возлагает на среду, о которой еще недавно высказывался весьма лестно: «Вологодские-то люди – лукавые, они и не скажут (Белову. – Ю. Р .) никакой горькой правды»14.
Белов свое недовольство Астафьевым высказывает публично, но, не желая выносить сор из избы, тщательно его маскирует. 11 января 1976 года в областной газете «Красный Север» он публикует заметку «На стыке двух поколений». В абсолютно комплиментарном ключе упомянуты военные повести Астафьева:
«Звездопад» («лаконичное и целомудренное повествование о солдатской любви»), «Кража» («лучшая у Астафьева») и «Где-то гремит война…» («совершенно близкая» Белову «атмосфера повести»). Однако в подтексте содержится явная полемика со старшим писателем, неоднократно утверждавшим, что он старше Белова на целую войну, и поэтому претендующим на абсолютное лидерство в группе. На основании своего впечатления от повестей Белов утверждает:
«Астафьев как бы связал, воссоединил для меня как читателя два поколения: фронтовое, отцовское, и мое собственное, фэзэошное (от ФЗО – фабричнозаводское обучение. – Ю. Р. ). Оказалось, что никакого разрыва между этими поколениями нет и не может быть» [1].
А раз поколенческого разрыва нет, то и претензии Астафьева на лидерство необоснованны.
Во второй половине 1970-х годов ситуация меняется уже существенно. В письме Е. Городецкому от 14 ноября 1976 года Астафьев, пожалуй, впервые решительно заявляет об отъезде из Вологды: «Надо уезжать. Дорога мне только в Сибирь, на родину, или на тот свет. Лучше на родину»15. Писатель долго откладывал трудное и хлопотное решение, постепенно подготавливая себя к нему. В письмах этого времени часто встречаются мотивы тоски по малой родине, рассуждения о сибирском климате и его пользе для здоровья и, главное, разочарованности в вологодских друзьях. Впрочем, о последнем он пишет только самым близким людям. Самая острая (и самая несправедливая) оценка вологодских писателей содержится в письме Носову, датированном июнем 1975 года:
«Разглядел я их, убедился, что пристального к себе присмотра они не выдерживают и не стоят – дерьмо, собранное в старинный крашеный туесок из милой бересты, прикрытое сверху благолепной иконкой русского письма, но уже осыпавшейся, растрескавшейся и отцветшей до доски, потерявшие все, кроме сознания: “Это мы на ней изображены!..” Знаю теперь, от чего родилась и приводящая Белова в бешенство, оттого, что точна, поговорка: “Вологодский конвой шутить не любит”!..»16.
Резкие слова во многом мотивированы личной обидой – вологодская организация в 1975 году отказалась принять в Союз писателей М. С. Корякину, жену Астафьева. В 1980 году Астафьев уехал из Вологды в Красноярск, личное общение писателей прекратилось, но они по-прежнему ревностно следили за творчеством друг друга.
В 1980-е годы новые произведения Астафьева вызывают скрытую либо прямую неприязнь Белова. Вот плохо замаскированная беловская реакция на «Затеси» в 1984 году:
«Ориентация на бессюжетность очень выгодна бездарным драматургам, посредственным и ленивым прозаикам. Под видом краткости они публикуют все свои блокнотные записи, ложная многозначительность таких коротышек не всегда очевидна…»17.
Позицию Белова разделяли и другие вологодские писатели, некоторые из них даже публично раскаивались в своей прежней дружбе с Астафьевым. Поэт Виктор Коротаев, не называя имени бывшего друга, писал в новогоднем номере «Литературной России» за 1983 год: «Не вся седина – серебро / И дружба не всякая – злато… / По младости / Зло и добро / Беспечно / Я путал когда-то…» [3]. Е. Носов в письме Астафьеву прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Вологодские ребята, надо думать, вздохнули после твоего отъезда, захорохорились. Уж больно ты застил их, загораживал благотворительное солнышко. Вот читаю в новогодней “Лит. России” стишки Вити Коротаева. Вон аж когда захрюкал малый на тебя…»18.
Если повесть Белова «Привычное дело» была причиной и основанием духовной близости писателей, то роман Астафьева «Печальный детектив» (1982–1985) стал триггером и символом отчуждения. Этим произведением Астафьев объективно выступил против основной линии «деревенской прозы» на идеализацию народа, и в этом плане его можно противопоставить беловскому «Ладу», создававшемуся в те же годы. Неудивительна резкая оценка романа Беловым. В вологодском контексте имела значение и документальность романа, на которой настаивал Астафьев в интервью Д. Быкову [2]. Но и без признаний автора в Вологде поняли, что писатель работал почти исключительно на местном материале, все эпизоды дурости и звериной жестокости, описанные в романе, имеют вологодское происхождение, что под областным городом Вейском подразумевается Вологда со многими реалиями и узнаваемыми лицами. Есть в романе и аллюзия на «Привычное дело», которая вполне могла задеть Белова: «Лавря-казак… из корпуса генерала Белова » допился до того, что не может управлять лошадью, и она, как и конь Пармен Ивана Африкановича, «своим ходом идет в конюшню»19. Или завуалированный намек на складывающийся в Вологде культ погибшего «по пьянке» поэта
Николая Рубцова, «по этой причине угодившего в модные, почти святые ряды преставившихся личностей»20. Под «отдаленным Хайловским районом», где происходит часть событий «Печального детектива», выведен Харовский район Вологодской области, родина Белова. Топонимическая игра с использованием бранного слова была особенно обидна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История взаимоотношений Белова и Астафьева, рассмотренная нами в развитии, образует некий сюжет. Основные его стадии: взаимная заинтересованность, легкое покровительство со стороны старшего писателя, ощущение духовного родства, первые признаки разочарования друг в друге при сохранении внешнего единства, открытая вражда. Особыми аспектами темы, требующими отдельного анализа, являются «финальные» оценки конфликта его участниками и попытки примирения, как выразился А. Романов, «таких могучих русских писателей»21. Эти вопросы предполагается рассмотреть в следующей статье.
* Статья написана при поддержке гранта РФФИ «Энциклопедия “Привычного дела” В. И. Белова», проект № 19-012-00348.
VASILY BELOV AND VICTOR ASTAFYEV:
Список литературы Василий Белов и Виктор Астафьев: к истории личных и творческих отношений
- Белов В. На стыке двух поколений. Заметка о творчестве Виктора Астафьева // Красный Север. 1976. 11 янв. С. 3.
- Быков Д. Виктор Астафьев "Печальный детектив", 1986 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tvrain.ru/lite/teleshow/sto_lektsij_s_lmitriem_bykovym/viktor_astafev_pechalnyi_detektiv-443103/ (дата обращения 01.05.2020).
- Коротаев В. Не вся седина - серебро. // Литературная Россия. 1983. 1 янв. С. 4.
- Суров М. Белов: Штрихи великой жизни. Вологда, 2007. 744 с.
- Трикоз Э. Л., Анфимова О. Н., Ефремова Л. Л. Дружба выдающихся людей: Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев // Вестник Вологодского государственного университета. Сер.: Исторические и филологические науки. 2019. № 4 (15). С. 55-65.