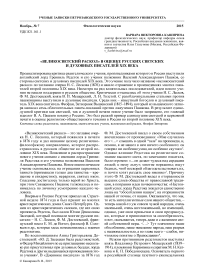«Великосветский раскол» в оценке русских светских и духовных писателей XIX века
Автор: Каширина Варвара Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (152), 2015 года.
Бесплатный доступ
Проанализирована критика евангелического учения, проповедниками которого в России выступили английский лорд Гренвиль Редсток и его ученик полковник Василий Александрович Пашков, со стороны светских и духовных писателей XIX века. Это учение получило название «великосветский раскол» по заглавию очерка Н. С. Лескова (1876) и нашло отражение в произведениях многих писателей второй половины XIX века. Несмотря на ряд влиятельных последователей, идеи нового учения не нашли поддержки в русском обществе. Критически отзывались об этом учении Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, князь В. П. Мещерский, Л. Н. Толстой. С разоблачительными статьями против пашковщины выступили и духовные писатели. Среди них - известный богослов и духовный писатель XIX века святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894), который из вышенского затвора написал семь обличительных писем-посланий против лжеучения Пашкова. В результате единодушной критики как светской, так и духовной печати новое учение было запрещено, его главный идеолог В. А. Пашков покинул Россию. Это был редкий пример единодушия светской и церковной печати в оценке религиозно-общественного течения в России во второй половине XIX века.
Редстокизм, пашковщина, евангелическое учение, великосветский раскол, феофан затворник
Короткий адрес: https://sciup.org/14750978
IDR: 14750978 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи «Великосветский раскол» в оценке русских светских и духовных писателей XIX века
«Великосветский раскол» – это заглавие очерка Н. С. Лескова, который появился в печати в 1876 году и дал название целому религиознофилософскому направлению, которое распространилось в русском обществе во второй половине XIX века. Появление и распространение нового учения связано с именами лорда Гренви-ля Редстока и его ученика полковника Василия Александровича Пашкова. Новое евангелическое учение основывалось на отрицании церковных таинств (признавали только два таинства – крещение и евхаристию), иерархии, святых икон. Спасение достигалось только верой во Христа, при этом Священное Писание толковалось и понималось по личному усмотрению каждого человека.
Впервые в Россию Редсток приехал на Страстной неделе 1874 года и был принят во многих аристократических домах Санкт-Петербурга. Одним из аристократических салонов, где вел свою проповедь Редсток, был салон Юлии Денисовны Засецкой, который посещали многие русские писатели – Н. С. Лесков, Ф. М. Достоевский, французский посол Е. М. де Вогюэ, философ В. Соловьев и др., которые здесь познакомились с идеями редстокизма.
По воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской: «Ю. Д. Засецкая была редстокисткой, и Федор Михайлович по ее приглашению несколько раз присутствовал при духовных беседах лорда Редстока и других выдающихся проповедников этого учения»1. В «Дневнике писателя» за 1876 год
Ф. М. Достоевский писал о своем собственном впечатлении от проповедника: «Мне случилось его <…> слышать в одной “зале” на проповеди, и, помню, я не нашел в нем ничего особенного: он говорил ни особенно умно, ни особенно скучно»2. Однако влияние Редстока на религиозное сознание высшего света, по замечанию писателя, было огромно: «…он делает чудеса над сердцами людей; к нему льнут; многие поражены; ищут бедных, чтоб поскорей облагодетельствовать их, и почти хотят раздать свое имение»3. Причину этого Ф. М. Достоевский видел в оторванности высших слоев общества от православной традиции, в попрании идеи почвенничества: «Настоящий успех лорда Редстока зиждется единственно лишь на “обособлении нашем”, на оторванности нашей от почвы, от нации. Оказывается, что мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, – теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький, но имеющий, однако, уже свои привычки и свои предрассудки, которые и принимаются за своеобразность, и вот, оказывается, теперь даже и с желанием своей собственной веры. <…> Тут плачевное наше обособление, наше неведение народа, наш разрыв с национальностью, а во главе всего – слабое, ничтожное понятие о Православии»4.
Резким противником редстокистов выступил князь Владимир Петрович Мещерский (1839– 1914), племянник Карамзина и соратник М. Н. Каткова и К. П. Победоносцева. Основатель первого в российской столице газетного еженедельника
«Гражданин» (его редактором в 1873–1874 годах был Ф. М. Достоевский) активно боролся против либеральных тенденций в русском обществе и отстаивал идеи монархизма. В еженедельнике был опубликован роман князя «Лорд-апостол в большом петербургском свете», который в 1876 году вышел отдельным изданием в четырех томах общим объемом в 1730 страниц. В образе английского проповедника лорда Хитчика, прототипом которого явился Редсток, автор едко высмеивал новомодного английского проповедника. В романе очень много параллелей с российской действительностью. Например, упоминается, что граф Симонов и его супруга, заручившись поддержкой лорда Хитчика, основывают среди аристократов «Общество по распространению нравственности и христианской этики», целью которого является преображение всей России на новых нравственных и этических принципах. Английскому лорду, которым восхищается высшее общество, противостоят православные священники. Отец Леонид на собрании лорда разоблачает это лжеучение: «Братья, тот из вас, кто станет проповедником легкого спасения и легкого прощения грехов, тот является еретиком, посланником лжехриста. Горе тому, кто покидает лоно своей родной Церкви и не внимает ее учению. Ему придется дать отчет в своей слепоте и в том, что он увел своих детей, своих слуг и всех других меньших братьев с пути истинного, для которых он по сути должен был служить примером»5. За эту проповедь общество требует расправы с «жалким батюшкой», которого вскоре переводят на другое место.
В противовес высшему обществу, потерявшему духовные ориентиры, в романе нарисованы идеальные христианские образы монахов. Многие герои пережили духовный кризис и возвратились в лоно Православия. Например, князь Баянов покинул столицу и поселился в своем имении, где вскоре сблизился с насельниками монастыря и вновь обрел смысл жизни.
В 1876 году князь Владимир Петрович Мещерский обратился к лорду Редстоку с открытым письмом6. Письмо было написано параллельно на французском и русском языках. Отвечая на обвинения в создании карикатурного образа Ред-стока, князь пишет, что «герой моего романа не ваш портрет, милорд, но ваше подобие»7.
И далее, обращаясь к Редстоку, прямо заявляет, что «форма и сущность ваших учений противоречат началам нашей Церкви, они производят соблазн <…> троякого рода:
-
1) в установлении особенных молитвенных собраний – вне нашей Церкви для членов, к ней принадлежащих, причем эти собрания имеют не простой характер религиозных бесед, но соединяются с молитвословием и догматическими учениями.
-
2) причины этих собраний побуждают многих из ваших учеников и учениц проявлять осо-
- бую преднамеренность, особый умысел, скажу больше – известное фанатическое упрямство, в объявлении себя публично последователями вашего учения, заведомо для них несогласного с учениями той Церкви, в которой они рождены и воспитывают детей своих.
-
3) и это самое важное, – так как несомненно доказано, что некоторые стороны, приводящего в восхищение учеников ваших, учения, вами проповедуемого, диаметрально противоположны учению Церкви, к которой почти все они принадлежат, и даже основным началам этой Церкви, то понятно, что такое восторженное сочувствие к этим именно сторонам вашего учения становится источником опасных религиозных заблуждений – в ущерб истине, всегда единой»8.
Вслед за Ф. М. Достоевским успех нового учения в России князь Владимир Мещерский объясняет тем, что «в большом свете, космополитическое воспитание издавна делало второстепенным обучение религии нашего народа»9.
Князь также обращается в Святейший Синод с требованиями запретить собрания редстокистов и выдворить «английского фарисея» из России.
В середине 70-х годов стали появляться и газетные статьи Н. С. Лескова об английском проповеднике, в которых «говорилось об его “еретическом вздоре”, что он несет “ахинею”, что, кажется, у нас “ему ничто не мешало быть умнее”, что “искать Иисуса в людях” надо не так, как это он делал…»10. Практически одновременно с появлением романа князя Мещерского в 1876 году в журнале «Православное обозрение»11 стал печататься очерк Н. С. Лескова «Великосветский раскол», который имел подзаголовок, указывающий не столько на его художественность, сколько на историчность: «Лорд Редсток, его учение и проповедь. Очерк современного религиозного движения в Петербургском обществе», который в 1877 году был опубликован сразу в двух столицах тремя изданиями12.
Иностранный проповедник принес в общество новое учение, которое автор точно назвал «великосветским расколом», с идеей всеобщего оправдания – «все принявшие Христа спасены, и им не о чем за себя беспокоиться и плакать»13. Слушатели находятся в самообмане, они «уверены, что полчаса или четверть часа тому назад, при произнесении известных слов Редстока, между небом и салоном, где они собраны, произошел самый живой обмен сношений о записке нескольких овец этого “малого стада” в “книгу жизни”. Они спасены и не замечают, как они в эти минуты похожи на католиков, только что получивших папскую индульгенцию не только на те грехи, которые ими совершены в прошедшем, но и на те, кои, по всей вероятности, будут совершаться в будущем»14.
По мнению Лескова, у Редстока отсутствуют явные достоинства проповедника, но у него «есть все, чтобы быть самым неувлекательным проповедником: копотливость и мешкатность, подрывающие доверие к тому, знает ли он, что хочет сказать, и при этом полнейшее отсутствие дара слова и самая неприятная дикция <…> Он никогда не приготовляет своей речи и она, должно признаться, от этого ничего не выигрывает: сначала он минут пять тихо молится, потом минуты три перелистывает Библию и потом нет-нет заговорит. По словам самых пламенных поклонниц лорда, “беседа его в начале всегда вяла и утомительна”. Им однако кажется, что “чем далее, тем он сильнее затрагивает души, облегчая каждому путь ко спасению верою во Христа, и живо представляя ту безысходную скорбь, которая ожидает всех, не избравших узкий путь”»15.
Подробно Лесков описывает приемы сектантского проповедника: «Привет у него при встрече с знакомым заученный и всегда один и тот же: это: “Как вы себя душевно чувствуете?” – Затем второй вопрос: “Что нового для славы имени Господня?” Потом он тотчас же вынимает из кармана Библию, и раскрыв то или другое место, начинает читать и объяснять читаемое. Перед уходом из дома, прежде чем проститься с хозяевами, он становится при всех на колени и громко произносит молитву своего сочинения, – часто тут же импровизированную: потом он приглашает кого-нибудь из присутствующих прочесть другую молитву и слушая ее, молится. Его постоянные почитательницы и слушательницы, разумеется, читают молитву по-английски или по-французски, но если приглашение его относится к кому-нибудь не молящемуся на этих языках, то тот читает молитву по-своему: лорд тогда молится, шепча про себя свою молитву и только в конце гласно читаемой молитвы громко произносит: “Аминь”. Молитвы при нем стараются читать или заученные со слов Редстока, или собственного сочинения, “вылившиеся из души”»16.
В чем же заключался успех проповеди Редсто-ка? По мнению Н. С. Лескова, прежде всего в его высоком титуле: «проповедующий лорд – это, как вы хотите, оригинально и так у нас необыкновенно, что дамы и джентльмены полюбопытствовали его послушать»17. В то время авторитет русского священства в глазах высшего общества был крайне низок18.
По мнению Лескова, любой отрывок из Библии, который цитировал лорд Редсток в защиту своего учения, можно интерпретировать совершенно иным образом. А сомнительная истина, неожиданно найденная одним человеком, не может быть представлена всему человечеству как новое учение о спасении.
В то же время отношение Н. С. Лескова к новым проповедникам было противоречивым. С одной стороны, он критиковал их деятельность как художник, с другой – активно сотрудничал с ними. В частности, печатался в журнале «Русский рабочий», издававшемся в Санкт-Петербурге (1875–1886), главным редактором которого была М. Г. Пейкер и где печатались материалы «Общества поощрения духовно-нравственного чтения».
4 января 1893 года в письме к Л. Н. Толстому Н. С. Лесков писал о своем поиске истины и веры, о внутренней путанице и неустроенности: «…я с ранних лет жизни имел влечение к вопросам веры, и начал писать о религиозных людях, когда это почиталось за непристойное и невозможное (“Соборяне”, “Запечатленный ангел”, “Однодум”, “Мелочи архиерейской жизни” и т. п.), но я все путался и довольствовался тем, что “разгребаю сор у святилища”, но я не знал – с чем идти во святилище. На меня были напоры церковников и Редстока (Засецкой, Пашкова и Ал. П. Бобринского), но от этого мне становилось только хуже: я сам подходил к тому, что увидал у Вас, но сам с собою я все боялся, что это ошибка, потому что хотя у меня светилось в сознании то же самое, что я узнал у Вас, но у меня все было в хаосе – смутно и нелепо, и я на себя не полагался; а когда услыхал ваши разъяснения, логичные и сильные, – я все понял, будто как бы “припомнив”, и мне своего стало не надо, а я стал жить в свете, который увидал от Вас и который был мне приятнее, потому что он несравненно сильнее и ярче того, в каком я копался сам своими силами»19.
О редстокистах и пашковцах отзывался критически и Л. Н. Толстой, который присутствовал на некоторых собраниях пашковцев20. В Дневнике от 13 марта 1889 года им была сделана запись: «Все они – и Пашк[ов], Radst[ock] проповед[уют]. – Я понял их, евангеликов, так: они от церковной безбожности очнулись и нашли более разумную и свободную и теплую веру в Хр[иста], искупившего своей кровью наши грехи и спасшего нас. И верят, и радуются. Но ошибка и тут большая: они чувствуют себя совершенными и всю энергию направляют на проповедь, предполагая, что совершенство жизни совершится бессознательно»21.
Через два года, в июле 1891-го, Л. Н. Толстой отвечал на вопрос, который волновал многих его современников: «Отчего успех Редстока в большом свете? Оттого, что не требуется изменения своей жизни, признания ее не правой, не требуется отречения от власти, собственности, князя мира»22.
В романе «Анна Каренина» (ч. VII, гл. XXI– XXII)23 Л. Н. Толстой сатирически изобразил английского проповедника. Прототипами некоторых героев также стали известные редстокисты: графиня Елена Ивановна Шувалова – для образа графини Катерины Ивановны Чарской в романе «Воскресение»24, доктор Бедекер – для образа проповедника Кизеветтера и для образа англичанина, спутника Нехлюдова при обходе камер сибирской тюрьмы в романе «Воскресение»25. Сюжет комедии «Пьяный винокур, или как чертенок краюш- ку заслужил», по мнению исследователей26, был заимствован из литографированной картинки, распространявшейся в народе пашковцами.
По свидетельству современников, последователь Редстока – полковник Василий Александрович Пашков – заимствовал внешние приемы английского проповедника: «…беседы Пашкова представляют почти буквальное повторение или копию бесед Редстока: как там, так и здесь проповедник старается прежде всего подействовать на слушателя эффектностью внешней стороны беседы. Как Редсток открывал свои собрания молитвой собственного составления, так точно поступал и Пашков; как Редсток во время молитвы бросался в стул таким образом, что голову наклонял вниз, сложив руки на спинку стула, так точно – проделывал и Пашков. Как у Редстока молитва была бессвязна и однообразна по содержанию, такою же выходила молитва и у Паш-кова»27.
Если разоблачительные статьи против учения Редстока публиковали в основном светские писатели, то против учения Пашкова решительно выступили духовные лица, и прежде всего – святитель Феофан Затворник, который из вышен-ского затвора написал целый ряд статей и писем. По словам святителя, Пашков «есть злейший молоканин и хлыст, у которого – ни Церкви, ни таинств, ни священства, ни молитвословий, – ничего нет. Кайся, веруй в Господа и живи добре – и все тут. Прочее все – побоку. С этою проповедью он разъезжает всюду. И у себя дома собирает, и многих уже сбил с толку. Вот-вот объявит секту»28. А в более поздних письмах к Н. В. Елагину утверждает даже, что учение Пашкова – «спиритская бесовщина»29.
Святитель Феофан написал семь писем, которые были опубликованы в журнале «Душеполезное чтение» в период с марта 1880 по февраль 1881 года30. Первое письмо было напечатано также отдельными изданиями в 1880 году в Москве и Санкт-Петербурге31. Отдельным изданием все семь писем, которые впоследствии вошли в состав сборника «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни», вышли в 1881 году32.
В первом письме святитель Феофан пишет об истории христианства, о существовании некогда Единой Церкви и о различных «ниспадениях в ложь и тьму»33 – католицизм, протестантство, англиканство, редстокизм и пашковщину. Святитель по пунктам объясняет заблуждения пашковцев, основные из которых: мнение о том, что, кто исповедует Христа устами, тот уже приял Его, что можно молиться своими молитвами без крестного знамения и поклонов, что следует отрицать Церковь, поклонение святым, Божией Матери, не соблюдать посты, отрицать церковные Таинства, причастие и др.
Во втором письме святитель еще раз объясняет, что Редсток, а вслед за ним и Пашков, построил себе «ложное, но обольствительное представление о христианстве» и всеми силами «старается набить его в головы других, полагая, что ратует за дело Божие и спасение братий»34.
В третьем письме объясняется, в чем заключается привлекательность учения Пашкова, или, по словам святителя, – «кривда в его учении»35. Это то, что спасение дается даром: «…слишком льготным представляется путь спасения. Уверовал, и все тут: и грехи прощены, и вечное наказание отменено, и падения не бойся, и добродетели все сами собою пошли из сердца, и Христос в тебя, и уж не взирая ни на что не покинет тебя, рай и Царство Небесное – твое, и под. – Остается только ликовать: ни трудов, ни опасений, ни борений, – дорога гладкая и превеселая»36.
В четвертом письме содержится наиболее подробное опровержение заблуждений Пашкова, которое разбирается по 20 пунктам. Впоследствии именно это письмо с небольшими дополнениями приводилось в примечаниях во многих работах против пашковцев.
Основные пункты учения пашковцев, которые опровергает святитель37:
-
1) Спасение совершилось, и все уверовавшие во Христа спасены.
-
2) Спасение даровано нам туне, а дары Божии, как непреложные и вечные, отняты быть не могут.
-
3) Человек спасается чрез веру во Христа.
-
4) Уверовавший во Христа и, следовательно, усвоивший себе искупление в собственность вечной погибели не подлежит.
-
5) Каждый уверовавший во Христа тотчас же получает отпущение грехов и избавляется от вечного наказания.
-
6) Для спасения следует принять в себе Христа. Для этого нужно сознать себя грешным. Уверовать во Христа, возблагодарить Его за все, что Он для нас сделал, сознать себя спасенными на веки и быть убежденными, что с этой минуты все грехи наши прощены и мы становимся неизменными причастниками жизни вечной.
-
7) Таким образом мы принимаем в себя Христа, который уже, невзирая ни на что, никогда не покидает нас, но всегда пребывает в нас.
-
8) Принявшему в себя Христа несвойственны смертные грехи; за грехи вообще он подлежит лишь временным наказаниям.
-
9) Вера во Христа, как дар Божий, никогда не отнимается у принявших в себя Христа, потому что дары Божии непреложны и вечны. Также остается при них и не отнимается у них благодать искупления.
-
10) Принявшему в себя Христа и потом согрешившему нужно лишь покаяться, и он тотчас получает непосредственное прощение, так как Христос есть неисчерпаемый источник милосердия и прощения.
-
11) Первым долгом принявшего в себе Христа должны быть благовествование, исповедание и проповедь.
-
12) Благовествование, проповедь и добрые дела суть непременные последствия принятия в себя Христа.
-
13) Каждый принявший в себя Христа непременно творит добрые дела, которые не спасают человека, а суть плоды веры; из нее они вытекают сами собой.
-
14) Крещение не пользует того, кто сознательно не принял в себя Христа.
-
15) Каждый, принявший в себя Христа, может уразуметь все святое Писание и истолковывать его другим. Впрочем, до некоторой степени понимать Св. Писание может каждый, даже и не принявший в себя Христа.
-
16) Церковь сама по себе, а прежде всего нужно искать Христа.
-
17) Христос вселяется в людей грешных и нечистых, лишь бы они в Него веровали.
-
18) Бог так возлюбил мир, что для нашего спасения разлучился с Отцом Своим.
-
19) Все вечные награды и наказания равны. Обители многие значат именно многие, но не разные; так как у Бога нет лицеприятия.
-
20) Все дни равны, не исключая и Воскресения.
Последние три письма святитель посвящает разъяснению необходимости быть твердым в вере и избегать разных «новизн»: «…не шевелись, и не затевай новизн, а живи, как все жили и теперь живут по-церковному, усердно исполняя все уставы Церкви. Так делая, несомненно Богу угодишь и спасешься. А модничать станешь, – Бога прогневишь и душу свою сгубишь»38.
Горячим сторонником святителя Феофана в борьбе с пашковцами стал староста Исаакиевского собора Санкт-Петербурга генерал Евгений Васильевич Богданович (1829–1914), известный издатель патриотических брошюр «Кафедра Исаакиевского собора». В 1883 году он издал в двух брошюрах «Открытые письма Пашкову старосты Исаакиевского собора». Эти издания были бесплатными и только в первые шесть лет были напечатаны тиражом в 50 тысяч экземпляров.
Благодаря многочисленным выступлениям как светских, так и духовных писателей в мае 1884 года на правительственном уровне были приняты меры к прекращению распространения учения Пашкова, сам Пашков уехал в Париж, где жил до самой смерти в 1902 году.
Список литературы «Великосветский раскол» в оценке русских светских и духовных писателей XIX века
- Георгий Ореханов, протоиер. В. Г. Чертков в жизни Л. Н. Толстого. М.: ПСТБУ, 2014. 191 с.
- Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984.
- Пругавин А. С. О Льве Толстом и о толстовцах: Очерки, воспоминания, материалы. Изд. 2-е. Репр. 1911. М.: ЛИБРОКОМ, 2012. 323 с.
- Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собр. писем. Вып. I-VIII. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и изд-ва «Паломник», 1994.