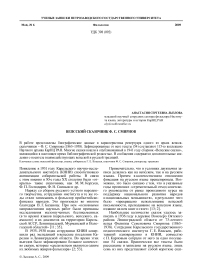Вепсский сказочник Ф. С. Смирнов
Автор: Лызлова Анастасия Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (100), 2009 года.
Бесплатный доступ
В работе представлены биографические данные и характеристика репертуара одного из ярких вепсов-сказочников - Ф. С. Смирнова (1863-1938). Зафиксированные от него тексты (54) составляют 115-ю коллекцию Научного архива КарНЦ РАН. Многие сказки вошли в опубликованный в 1941 году сборник «Вепсские сказки», являющийся в настоящее время библиографической редкостью. В сообщении содержатся дополнительные сведения о носителе взаимодействующих вепсской и русской традиций.
Вепсский фольклор, сказка, сказочник ф. с. смирнов, репертуар, традиция, собиратель г. е. власьев
Короткий адрес: https://sciup.org/14749582
IDR: 14749582 | УДК: 398
Текст научной статьи Вепсский сказочник Ф. С. Смирнов
Появление в 1931 году Карельского научно-исследовательского института (КНИИ) способствовало активизации собирательской работы. В связи с этим именно в 30-е годы XX столетия были «открыты» такие сказочники, как М. М. Коргуев, Ф. П. Господарев, Ф. Н. Свиньин и др.
Наряду со сбором русского устного народного творчества, сотрудники института в те же годы стали записывать и фольклор прибалтийско-финских народов. Это произошло во многом благодаря В. Г. Базанову. При нем «основными направлениями научных работ были признаны исследования малоизученных бесписьменных (в то время) языков (карельского, вепсского, саамского) и их диалектов на территории Карельской АССР, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей» [11; 35].
В 1935–1938 годах сотрудники КНИИ совершили ряд экспедиций в вепсские поселения Карелии и Ленинградской области. Во время этих выездов было зафиксировано большое количество сказок, которые «среди вепсов являются одним из любимых жанров фольклора» [2; 53].
Примечательно, что в условиях двуязычия записи делались как на вепсском, так и на русском языках. Причем в количественном отношении фиксация на русском языке превалировала. Возможно, это было связано с тем, что в указанные годы произошел «стремительный отход советского руководства от ранее проводимого курса на поддержку национального развития народов и национальных меньшинств», в результате чего было «прекращено использование вепсской письменности, преподавание на вепсском языке, издание на нем книг и газет» [13; 2].
Наибольшее количество сказок удалось записать в 1936 году в деревне Вонозеро Оятского района Ленинградской области от 73-летнего вепса Филиппа Семеновича Смирнова (1863– 1938). Сотрудник Карельского государственного педагогического института Г. Е. Власьев, работавший одновременно в КНИИ, совместно с П. Карповым собрали от него за одно посещение 54 сказки. Практически все тексты были рассказаны и записаны на русском языке, лишь семь из них представляют собой короткие сказ- ки-анекдоты на вепсском языке, содержащие нецензурные выражения. (Заметим попутно, что в 1937–1938 годах в Шелтозерском районе на вепсском и на русском языках были также зафиксированы материалы от других вепсов-сказочников – А. Х. Клопова, И. А. Бузаева.)
Такого количества сказок больше не удавалось записать ни от одного вепса. Однако тексты Ф. С. Смирнова не были включены в сборник «Вепсские сказки», подготовленный Н. Ф. Онегиной и М. И. Зайцевой [8]. Его репертуар не учтен даже в «Описи вепсских сказок» [8; 201–207]. Обусловлено данное обстоятельство лишь тем, что записи были сделаны на русском языке. Это ни в коей мере не должно быть препятствием для рассмотрения личности и творчества яркого носителя фольклора, чему и посвящается статья.
Собранные от Ф. С. Смирнова сказки составили 115-ю коллекцию русского фонда Научного архива КарНЦ РАН (НА КарНЦ). Она включает в себя три тома формата А4 в твердой обложке, объединяющих произведенные в тетрадях и на отдельных листах карандашные записи. В большинство текстов внесены последующие правки чернилами или карандашом. Практически все сказки были записаны один раз, лишь «Полесник и барашек» – дважды. В НА КарНЦ есть также машинописные копии входящих в состав коллекции фольклорных произведений.
Согласно внутренней описи, почти половина записанных от Ф. С. Смирнова текстов (26) являются волшебными сказками, остальные – новеллистическими (11) и анекдотами (15). Сказка «Английский милорд Георг» обозначена как «пересказ иностранной повести», не имеющий соответствий в Указателе [14]. В описи коллекции не учтен текст «Невеста», поэтому следует уточнить список сказок Ф. С. Смирнова: он состоит не из 53, а из 54 наименований.
На основе полученных материалов Г. Е. Власьев позднее подготовил к печати сборник «Вепсские сказки», который был опубликован в Петрозаводске в 1941 году. Несмотря на то что тираж издания обозначен в размере 10 тысяч единиц, в библиотеках г. Петрозаводска оно не обнаружено. Один экземпляр хранится в личном архиве основателя Шелтозерского вепсского этнографического музея Р. П. Лонина. Сборник представляет собой книгу небольшого формата, насчитывающую 260 страниц. В него вошли 39 сказок из репертуара Ф. С. Смирнова. По-видимому, остальные 15 вариантов не были опубликованы из-за их содержания. Большинство этих сказок помечены в коллекции словами «нецензурная», «срамная».
Н. Ф. Онегина не совсем точно называет издание популярным сборником [8; 7], ведь, помимо текстов, в нем представлен следующий научный аппарат: вступительная статья, примечания к текстам и словарь малопонятных слов.
Вступительная статья, озаглавленная «Вепсские сказки», имеет небольшой объем [9; 3–6].
В ней содержится краткая характеристика места записи (Оятский район), описаны условия бытования сказок у вепсов и приводятся некоторые наблюдения над особенностями текстов, записанных от Ф. С. Смирнова. Примечательно, что в материалах НА КарНЦ сохранилась рукопись, в которой содержатся три разных варианта вступительной статьи к будущему сборнику [1]. Один из них – «Сказки Оятского района» – опубликован в сборнике под другим заглавием (см. выше). Два других имеют одинаковое название – «Сказочник Ф. С. Смирнов и его сказки», но отличаются объемом: 18 (!) и 5 машинописных листов. В этих статьях представлен очень подробный и сокращенный (соответственно) анализ жизни и репертуара Ф. С. Смирнова, который не вошел в сборник. В «Примечаниях» [9; 254–257] все тексты соотнесены с Указателем Аарне – Андреева, учтены сюжетные контаминации, отмечены интересные детали, использующиеся сказочником в том или ином тексте. «Словарь местных слов» [9; 258] объясняет значение 41 выражения. В него включены как вепсские, так и русские диалектные слова.
Отметим, что при подготовке сказок к публикации Г. Е. Власьев их редактировал. Так, в некоторых текстах он исключал отдельные слова и даже целые эпизоды, имеющие эротическое содержание («Иванушко-медвежьи ушки», «Ко-щуй Бессмертный»). Кроме того, составитель менял формы слов, употребляя, например, его вместо евонный, их вместо ихний ; слюнами помазал вместо слюнам помазал; невестка вместо невеска и др.
В материалах собирателя, хранящихся в НА КарНЦ, содержатся минимальные сведения, касающиеся жизни сказочника. Ф. С. Смирнов родился в 1863 году в деревне Вонозеро Оятского района Ленинградской области. Свое детство Филипп провел безвыездно в родной деревне. В 18-летнем возрасте он был отправлен в Валаамский монастырь, где прослужил послушником в течение одного года. По возвращении домой Ф. С. Смирнов стал заниматься в основном сельским хозяйством. Судя по всему, интересующий нас человек был мастером на все руки, что подтверждается следующими словами Г. Е. Власьева: «Обладая от природы незаурядными способностями и богатой инициативой, Филипп очень быстро усваивал многие виды сельскохозяйственных и лесных работ. Он был и хорошим лесорубом, неплохим плотником, бондарем и т. д. и т. п.» [1; 1]. Кроме всего прочего, Ф. С. Смирнов был охотником: «У себя в деревне он почти ежегодно принимал участие в облаве на медведей. Был правой рукой приезжающих из Петербурга егерей-охотников; не раз был в лапах у медведя; на своем веку обошел не один десяток медведей и собственноручно убил их больше десятка» [1; 1]. Нередко Филипп Семенович отлучался на отхожие промыслы (лесозаготовки, торговля). В связи с этим ему прихо- дилось бывать в Ленинграде и других городах и селах Русского Севера. Здесь он встречался с разными людьми, в том числе со сказочниками. Ф. С. Смирнов с удовольствием слушал их сказки и, по его словам, запоминал на всю жизнь. Наряду с этим он, будучи грамотным человеком, увлекался чтением лубочной литературы, которую получал у приезжавших в его родную деревню охотников, а позднее приобретал сам. Особенный интерес Ф. С. Смирнов проявлял к сказкам; он также любил исторические и приключенческие книги. Сведений о том, перенимал ли он сказки от кого-то в своей деревне, обнаружить не удалось.
Г. Е. Власьев отмечает, что «обладая незаурядной памятью, Филипп Семенович впитывал в себя, как в губку, все, что слышал, и все, что вычитывал из книг» [1; 2]. Данное обстоятельство способствовало тому, что Ф. С. Смирнов сам стал рассказывать сказки еще в юношеские годы. По словам собирателя, уже в возрасте 30 лет он был вполне зрелым сказочником и с каждым годом совершенствовал свое мастерство.
Филипп Семенович был известен далеко за пределами своей деревни и, по словам Г. Е. Власьева, «всю свою многолетнюю жизнь по всему району р. Ояти слыл за прекрасного сказочника» [1; 2]. Кроме того, в его репертуаре было большое количество присказок, песен, анекдотов, загадок, которые планировалось записать зимой 1936/37 года. Осуществить задуманное собирателям не удалось, так как уже «в 1936 году он заболел. Паралич отнял у него не только движение, но и речь. Правда, спустя месяц речь до некоторой степени восстановилась, но все же рассказывать <Смирнов> больше был не в состоянии» [1; 3]. А в 1938 году его не стало.
Все же «и то, что уже записано, позволяет судить о нем как о незаурядном носителе народного творчества» [1; 23].
К сожалению, в нашем распоряжении нет не только фотографии, но даже и словесного описания внешности Ф. С. Смирнова. Г. Е. Власьев обратил внимание на своеобразную манеру сказочника: «Обыкновенно он рассказывал за столом. Руки лежали свободно на столе. Особых жестов не было, но зато мимика и интонация особенно углубляли переживания, страдания и радость героев сказки» [1; 20].
Сказки Ф. С. Смирнова пользовались большим вниманием у разновозрастной аудитории. Взрослые слушали их во время перерывов на работе, а также на деревенских молодежных «бесёдах». Об этом свидетельствуют воспоминания работника Надпорожского сельсовета И. Т. Прокопьева: «Помню, как сейчас, сидим мы на бесёде, пляшем и играем, и вдруг кто-то сообщает, что дядя Филя в деревне. Немедленно снимаемся и всей ватагой к нему. Филька дядя начинает нам рассказывать сказки. Мы забываем и про бесёду, и про сон, так напролет слушаем до утра» [1; 2].
По словам Г. Е. Власьева, особенно любили сказочника дети. А он с удовольствием, несколько иначе, чем взрослым слушателям, рассказывал им сказки. Ориентируясь на детскую аудиторию, Филипп Семенович излагал содержание предельно ясно и конкретно, приводя много наглядных примеров, сравнений.
Итак, слушатели очень любили Ф. С. Смирнова, а он, в свою очередь, очень любил их. Ведь «сказывание сказок являлось как бы его органической потребностью» [1; 20].
Для сказок Филиппа Семеновича характерны индивидуальные особенности. Они достаточно подробно проанализированы в материалах Г. Е. Власьева. К таким особенностям собиратель относит следующие:
-
• введение религиозных мотивов (эпизод покаяния священнику перед смертью в сказке «Английский милорд Георг»; частое появление героев, связанных с церковью, - архимандрит, монах, поп, пустынник);
-
• отражение быта вепсского населения (упоминание о подсечной системе ведения сельского хозяйства в сказке «Великая птица», о древнейшем способе охоты на птиц «пе-телками» в варианте «Иван Горемыкин»);
-
• включение элементов, относящихся к современным достижениям науки и техники: «Дровни покатили, как теперь автомобиль » в сказке «Омелюшка-дурачок»; «Жар-пти-цино перо издает такой свет, как от прожектора » в варианте «Конек-горбунок»; «Драгоценная была такая корона, что оценить нельзя, тут были драгоценные камни и сияли, как от электричества » в тексте «Бурма-богатырь» (подчеркнуто мной. - А. Л. );
-
• переплетение волшебно-сказочных сюжетов с новеллистическими и анекдотическими («Дий-попович», «Дядька и Иван-царевич»). Как верно отмечает составитель сборника, «почти все сказки являются скомпанован-ными из отдельных сюжетов» [1; 18].
Добавим, что во многих текстах сказочником упоминаются элементы городской жизни. Так, часто действие разворачивается в Петербур-ге/Ленинграде («Доктор-ворожей», «Бурма-генерал», «Дуня», «Про орла»). При этом Ф. С. Смирнов иногда называет вполне конкретные места: Калашников проспект, Гончарная улица, Невская Лавра, Нева. Примечательно, что в одном из вариантов функционирует бык, у которого под хвостом расположен Гостиный двор со всеми его атрибутами: «...зайдет туда сколько угодно людей, все равно всем хватит накормить, напоить, есть там бани и т. д.» («Гостиный двор»). В некоторых сказках упоминаются и другие города - Москва («Про орла»), Лондон («Английский милорд Георг»). Заметим, что в последнем варианте фигурируют также Арабское королевство и Бранденбургия. Говоря о городе, Ф. С. Смирнов в сказках всегда использует его характерные приметы: гостиница, квартира, лавка, контора, «палихмахерская», аптека, корабельная пристань; извозчик, кучер, городовой; коляска, трамваи; вывеска, балкон; ярмарка, рынок, базар и др.
Г. Е. Власьев отмечает и своеобразие стиля сказок Ф. С. Смирнова. Его тексты характеризуются «частым введением <…> диалога и искусным выделением чужой речи: беседуют у него и звери, и люди, и деревья и т. д.» [1; 20]. Сказки Филиппа Семеновича отличаются «большой силой, стремительностью и образностью» [1; 15]. Особенностью изложения являются «сжатость и лаконичность» [1; 16]. По словам Г. Е. Власьева, «язык сказок Смирнова является языком народным, приближающимся к литературному» [1; 20]. Безусловно, на это повлияло увлечение сказочника лубочными изданиями. Многие их сюжеты присутствуют в вариантах Филиппа Семеновича. Так, например, в его репертуаре имеется сказка «Про Добромысла и про сына Ивана богатыря», которая восходит к созданной в 1895 году И. Кассировым редакции «Сказки о Иване-богатыре, о прекрасной супруге его Светлане и о злом волшебнике Карачуне». Этот текст представляет собой контаминацию нескольких сюжетов, зафиксированных в указателе под номерами: 402 Царевна-лягушка , 400 1 =АА 400А=К 400А, В, С, D Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену, 554 Благодарные животные, 302 2 Смерть Кощея в яйце [14].
Примечательно, что на сегодняшний день нами обнаружено всего пять вариантов указанной лубочной сказки, бытовавших в устной традиции. Самый первый из них был рассказан именно Ф. С. Смирновым в 1936 году [6]. Годом позже в Петрозаводске на Онежском заводе Н. В. Новиков записал сказку «Еруслан Лазаревич» от Ф. П. Господарева [4], который почти до 40-летнего возраста жил в Белоруссии, а в 1903 году был сослан в Карелию за участие в крестьянском восстании. В 1938 году была зафиксирована сказка «О Светлане» от 79-летнего жителя д. Рагнозе-ро Пудожского района О. И. Дмитриева [2]. (Отметим, что сказочную традицию усвоил также его сын – Михаил Осипович, который в 1976 году рассказал собирателям «Сказку про жену Светлану» [5].) И, наконец, в 1939 году в Тамбовской области от 60-летнего Василия Ивановича Голо-вашина была записана сказка «Об Иване-царевиче и Елене Прекрасной» [15; 66–71].
От лубочной редакции в этих текстах сохраняется усложнение эпизодами, связанными с Карачуном, который дважды в ходе повествования совершает похищение героини. В резуль- тате этого упоминаемые сказки оказываются двухходовыми. Текстологический анализ названных вариантов может быть предметом отдельного исследования.
Итак, четыре из пяти текстов были записаны примерно в одно время (конец 1930-х годов) на удаленных друг от друга территориях. Все они восходят к одному лубочному источнику. Причем лишь Ф. С. Смирнов сам читал издание, а Ф. П. Господарев, О. И. Дмитриев и В. И. Голо-вашин были неграмотными. Эти носители фольклора способствовали тому, что сказка, напечатанная на страницах книги, продолжила свое существование в устной традиции.
И другие варианты, записанные от Филиппа Семеновича, имеют литературные источники. Так, сказка «Солдат Антипка» чрезвычайно напоминает «Огниво» Ганса Христиана Андерсена, а «Марцимерис» «является изложением какой-то книжной повести» [9; 254]. В тексте «Гостиный двор» наблюдаются переклички с начальным эпизодом «Сказки о Царе Салтане» и поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина.
В то же время в репертуаре Ф. С. Смирнова есть и собственно фольклорные варианты. Установить это достаточно сложно, ведь «в лубочных редакциях к началу XIX века существовало более 40 сюжетов» [10; 45], многие из которых представлены у Филиппа Семеновича.
Безусловно, проблема источников сказок Ф. С. Смирнова требует специального рассмотрения.
В завершение необходимо отметить, что сказки Ф. С. Смирнова правомерно относить одновременно как к русскому, так и к вепсскому фольклору, ведь, по словам Г. Е. Власьева, он одинаково хорошо рассказывал их и по-русски, и по-вепсски. Вообще же многие мастера-сказочники формировались именно в двуязычной среде. Так, М. М. Коргуев жил в с. Кереть Лоух-ского района, где тесно переплелись русская и карельская традиции. Формирование репертуара Ф. П. Господарева происходило в Белоруссии; переехав в Карелию, он усвоил и севернорусские сказки. Фольклорное наследие Ф. С. Смирнова, в свою очередь, является примером тесного взаимодействия русской и вепсской сказочных традиций. Оно представляет большой научный интерес и заслуживает подробного изучения. Поэтому сборник Г. Е. Власьева должен быть переиздан с дополнением не вошедших в первое издание текстов, с исправлением редакторской правки, внесенной составителем, и с соблюдением всех современных принципов научного издания.
Список литературы Вепсский сказочник Ф. С. Смирнов
- Башнин Ю.Н. Видный ученый [К 100-летнему юбилею Г. Е. Власьева]//Kodima. 2000. № 2 (83). С. 2.
- Вепсские народные сказки: Сборник/Сост.: Н. Ф. Онегина и М. И. Зайцева. На русском и вепсском языках. Петрозаводск: Карелия, 1996. 261 с.
- Вепсские сказки/Под общ. ред. Н. П. Андреева; Зап. текстов, коммент. и примеч. Г. Е. Власьева. Петрозаводск: Государственное изд-во Карело-Финской ССР, 1941. 260 с.
- Корепова К.Е. Русская лубочная сказка. Н. Новгород: КиТиздат, 1999. С. 111-130.
- Марковская Е.В. Проблемы собирания, систематизации и архивного хранения фольклора (на материале фольклорных архивов КарНЦ РАН): Дис.... канд. филол. наук/ИЯЛИ КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2006. 232 с.
- Сказки Филиппа Павловича Господарева/Под общ. ред. М.К. Азадовского; Зап. текста, вступит. ст. и примеч. Н.В. Новикова. Петрозаводск: Госиздат КФССР, 1941. С. 218-232.
- Строгальщикова З.И. Вепсы в XX веке//Kodima. 1999. № 6 (75). С. 2.
- СУС -Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка/[Л.Г. Бараг и др.]; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Л.: Наука, 1979. 438 с.
- Тамбовский фольклор/Ред. и предисл. Ю.М. Соколова и Э.В. Гофман. Тамбов: Тамбовская правда, 1941. С. 66-71.