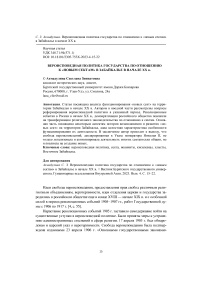Вероисповедная политика государства по отношению к «новым сектам» в Забайкалье в начале ХХ в
Автор: Ахмадулина С.З.
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу функционирования «новых сект» на территории Забайкалья в начале XX в. Автором в вводной части рассмотрены вопросы реформирования вероисповедной политики в указанный период. Революционные события в России в начале XX в., демократизация российского общества повлияли на трансформацию религиозного законодательства по отношению к сектам. Основная часть посвящена некоторым аспектам истории возникновения и развития «новых сект» на территории Забайкалья, дана целостная характеристика особенности функционирования их деятельности. В заключение автор приходит к выводу, что свобода вероисповеданий, декларированная в Указе императора Николая II, не только легализовала и активизировала деятельность многих сектантских общин, но и повлияла на создание новых.
Вероисповедная политика, секта, иоанниты, кисилевцы, хлысты, восточное забайкалье
Короткий адрес: https://sciup.org/148327584
IDR: 148327584 | УДК: 348.71:94(571.1) | DOI: 10.18101/2305-753X-2023-4-15-22
Текст научной статьи Вероисповедная политика государства по отношению к «новым сектам» в Забайкалье в начале ХХ в
Ахмадулина С. З. Вероисповедная политика государства по отношению к «новым сектам» в Забайкалье в начале ХХ в. // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2023. Вып. 4. С. 15‒22.
Идеи свободы вероисповедания, предоставления прав свобод различным религиозным объединениям, веротерпимости, идеи отделения церкви и государства зародились в российском обществе еще в конце XVIII — начале XIX в. и с особенной силой в период революционных событий 1905–1907 гг., работ Государственной думы с 1906 по 1917 г. [4, с. 55].
Нарастание революционных событий 1905 г. заставило самодержавие пойти на существенные уступки в вероисповедной политике. Были приняты меры к устранению административных стеснений в сфере религии. 17 апреля 1905 г. был обнародован и царский указ о веротерпимости. Свобода вероисповедания была подтверждена изданными 23 апреля 1906 г. «Основными государственными законами»
(ст. 39) — «Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования этой свободою определяются законом»1
Анализ содержания указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» показывает, что в Российской империи была установлена ограниченная свобода вероисповеданий, которую можно определить как свободу выбора религии и свободу отправления религиозных обрядов. Весомым результатом принятия указа следует признать юридическое закрепление права личности на вероисповедные переходы в рамках христианских исповеданий, а также допущение отпадения от православия лиц, числящихся в нем формально, а на деле исповедовавших свою старую религию, и переход в одну из нехристианских вер.
Закон установил различие между вероучениями, именовавшимися единым словом «раскол», разделив их на три группы: а) старообрядческие согласия; б) сектантство; в) последователи изуверных учений, «самая принадлежность к коим наказуема в уголовном порядке»2.
Указ 17 апреля 1905 г. изменил правовой статус старообрядческих и сектантских общин, они были признаны терпимыми религиозными объединениями. В определенной степени принятые относительно них правовые меры способствовали согласию в русском обществе, для многих из которых старообрядцы и сектанты представлялись вредными и вынуждали с ними бороться. В числе позитивных результатов указа выступает расширение прав инославных конфессий — улучшение правового положения буддистов и мусульман. Все эти меры были направлены на нивелирование правовой неравноправности религиозных обществ России.
Важное значение для развития правосознания российского населения имела связанная с разработкой и принятием указа «Об укреплении начал веротерпимости» религиозная амнистия — облегчение участи лиц, отбывавших наказания по религиозным преступлениям: освобождение их из тюрем, снижение сроков наказаний и др. Большой резонанс в общественных кругах вызвала также либерализация правоприменительной практики, а также отмена целого ряда административных распоряжений, стеснявших свободу вероисповедания [5].
Исторически сложилось так, что Республика Бурятия является многонациональным и поликонфессиональным регионом, где успешно сосуществуют представители различных конфессий. Сегодня Бурятия — центр российского буддизма, «языческий» регион с давними традициями шаманской практики, успешно институционализирующейся в различные шаманские организации, территория возникновения такого явления, как «бурятский протестантизм», а Байкал — центр притяжения для различных новых религиозных движений [1, с. 125–152]. Бурятия выступает почвой для создания «новых сект», ярким примером может служить дей- ствовавшая на протяжении многих лет организация «Мать Мира Майтрея», основательница которой провозгласила себя мессией.
В качестве временных рамок мы выбрали начало ХХ в., что связано с изменениями в правовой базе религиозного законодательства, демократизацией во многих сферах общественно-политической жизни страны. Учитывая, что примеры создания «новых сект» на территории региона имеют давнюю историю, обратимся к материалам архивного фонда Селенгинского Троицкого монастыря, датирующимся более ранним периодом, 1830-ми годами. В «Деле об обвинении иеромонаха Израиля в организации еврейской секты при Чикойском монастыре» в 1834 г.1 говорилось, что последний организовал в обители некое общество и даже привлек в него некоторых из почетных людей города Кяхта, в особенности семейство купцов Молчановых. Общества эти сходны были с сектой «людей Божиих» или «духовных христиан» (молокан). Собрания и молитвы данного общества велись кощунственным образом, грубо нарушались порядок и церковные уставы.
Израиль, в мире Иван, был сыном штатного служителя Паисиево-Галичского монастыря. Прибыл в Забайкалье из Костромской губернии, а точнее был сослан подальше, поскольку уже там, по донесению местного архимандрита, он организовывал в башне монастыря «подозрительные собрания»2. В материалах дела есть описание действий, свершаемых Израилем в Чикойском монастыре: «Израиль по приезде в Чикойский скит 17 февраля 1834 г. с самого начала, при встрече в церкви, показал самомнение, свирепость и мятеж. Настоятеля скита иеромонаха Варлаама, после укоризненных замечаний, поставил в церкви на колена, а также и всю скитскую братию. Варлаам стоял на коленях с вечера до утра, а братия разошлась ночью по кельям под предлогом угара в церкви. Израиль сам взял с престола Евангелие и крест и приказал мальчикам нести в покои, и сам вышел. Назавтра Израиль поставил в зале настоятельских келий стол, а на нем разложил в том же порядке, как на престоле, кресты, дарохранительницу, со Святыми Дарами, дискос и проч., накрытые лучшими покровами, поставил аналогий с раскрытою Библией. В зале на стульях сидели три девицы и три женщины в белых костюмах и несколько лиц мужеского пола. Приказано было сесть и Варлааму, а остальная братия выглядывала из передней. Потом Израиль вынул из дарохранительниц ковчежец со Святыми Дарами, вложил их в простую чайную чашку, покадил и произнес: “Со страхом Божиим и верою приступите”, и начал приобщать всех бывших в зале, начиная с девиц. Затем Израиль, стоя на коленях, читал составленную им молитву, после того открыл дискос и сняв звезду, четвероугольно обрезал хлеб и раздал для вкушения находившимся тут. Они ели и запивали вином из сосуда. После каждого действия Израиль садился и, по выражению Варлаама, предавался молчанию. Действия свои он совершал в лучшем подризнике, епитрахили и поручах. Тут же принесен был таз. Израиль, препоясанный платом, начал умывать ноги, начиная с девиц и, наконец, ноги иеромонаха Варлаама, хотя он от того усиленно отказывался. Все это окончилось в 11 часов пополудни»1.
«В 3 часа по полуночи. Иеромонах Варлаам отслужил по обычаю утреню в церкви и предавался размышлению о происходившем. В это время Израиль, будучи в чрезвычайном душевном расстройстве и с вечера разгневанный на строителя, с дерзостию вошел в алтарь, разоблачил престол, оставил оный в одной срачице, жертвенник же сдвинул с места, Варлаама выслал вон из церкви, и, приставив к дверям церкви сторожа, чтобы не впускал никого из жителей монастыря, заставил девиц мыть алтарь, а женщин — церковь»2.
«С полуночи на следующее число Израиль приказал благовестить к утрени. По благовесту собрались в церковь как жители монастыря, так и прибывшие из деревень к воскресной службе. В церковь принесены были 12 стульев; за теми, которые несли стулья, шел Израиль с крестом на голове, по обе стороны его несли подсвечники, одна девица несла сосуд вина, другая дискос с хлебом, покрытым лучшими покровами, третья девица несла Евангелие; из женщин две — Евангелие, третья — дарохранительницу. Участники литургии сидели на скамьях, игумен мыл им ноги, после чтения Евангелия прочел молитву не из служебника, а какую сам сочинил»3. Сообщалось также, что Израиль был знаком «с мистиками масонских лож» и подчеркивалось, что тот даже возил с собой книгу Фомы Кемпийского «О подражании Христу» и в дополнение ко всему объявил себя «Ангелом Светлым».
Сектой в полном смысле слова данный кружок назвать было нельзя. Израиль, очевидно, хотел уйти от казенщины и формализма, показать евангельскую первооснову богослужения, равенство всех верующих в церкви. Тем не менее основатель монастыря отец Варлаам, причисленный впоследствии к лику святых, написал на него в Иркутск донос, где красочно перечислил все нарушения и отходы Израиля от церковных уставов. Дело приобрело широкий общественный резонанс и дошло до обер-прокурора Священного синода, от которого обо всем узнал император Николай I. Началось следствие, причем как церковное, так и светское полицейское, в результате которого «помрачившийся умом» Израиль был сослан в Соловецкий монастырь, где провел в молитвах долгих 28 лет, а другие соучастники и приверженцы Израиля были подвержены церковной епитимии..
Все состоящие в «секте» Израиля, кроме самого игумена, были коренными местными жителями, в основном жителями Кяхты, и в данном случае речь не шла о сосланных в Сибирь членах какой-либо сектантской общины. Однако здесь мы видим яркий пример еще одного способа появления и развития сектантского общества, ставшего в будущем основным, — целенаправленной прозелитической деятельности прибывшего из другого региона лидера среди местного населения.
Еще одним не менее интересным примером создания сектантской общины в регионе является возникновение и деятельность общины — ионитов. На сегодняш- ний день история секты ионитов нашла определенное отражение в отдельных работах. Основная наша задача на базе материалов Государственного архива Республики Бурятия, а также Государственного архива Забайкальского края — рассмотреть механизмы борьбы с подобными новациями со стороны церкви и органов государственной власти.
Иоаниты — секта, которая стала формой суеверного поклонения известному проповеднику Русской православной церкви Иоанну Кронштадскому (1829– 1908 гг.). Необычайная популярность, которой пользовался Иоанн, приводила к появлению различных суеверий и мифов, связанных с его жизнью.
В начале ХХ в. появляются различные секты — направления ионитов, их названия формулировались по фамилиям основателей. Одной из популярных сект были кисилевцы как разновидность хлыстовства. Основательницей выступила Матрена Киселева, портреты которой как лики Богородицы держали в своих домах верующие. Зародилось это религиозное течение в Кроншдадте, затем центр переместился в нынешний г. Ломоносов (1895 г.), и оттуда данное религиозное течение уже распространилось по территории Российской империи. Примечателен тот факт, что уже в 1901 г. упоминаются иоанниты в Восточном Забайкалье, это связано с тем, что сектанты привлекали паломников, стекавшихся на богомолье в Кронштадт, и распространяли через них свое учение до самых удаленных территорий империи. Киселевцы относились к Иоанну Кронштадтскому как к воплощению Троицы, сектанты проводили таинство причащения из чаши, на которой был изображен отец Иоанн, веря, что это своего рода печать, по которой Иоанн узнает их в день Страшного суда и спасет их.
Сама основательница кисилевцев М. И. Киселева была почитаема как Богородица, именуясь Порфирией, Великой праведницей, которая имела дар пророчества и говорила на разных языках. В некоторых сектантских сочинениях она именуется «дщерью Царя Небесного, «госпожой», «мученицей» или «столпом Церкви». Обожествление Марии Киселевой было воплощено в песнопениях, изображениях ее «лика» на иконах, а после ее смерти в 1905 г. место захоронения стало местом почитания «величайшей святыни». У Матрены были свои главные сподвижники — Н. Дмитриев, который почитался за Иисуса Христа (Назарий старец или отец), В. Ф. Пустошкин (Василий почитался как «Дух Святой»), Матфей Псковский, именуемый как «архангел Михаил», и еще один персонаж — Михаил Петров, все четверо признавались «святыми». Апокалипсические настроения были центральными в учении, они пугали всех скорым Судом Божьим, уверяя, что именно им открыты месяц и год второго пришествия Христа на землю. Секта имела опыт издательской деятельности, с 1906 г. в свет начали выходить еженедельный журнал «Кронштадтский маяк» и иные журналы и брошюры. Сектанты составили собственный «акафист» Матрене Ивановне Киселевой. Подобная активность в действиях киселевцев вызывала ответную реакцию со стороны Русской православной церкви и органов государственной власти. В 1912 г. решением Священного синода Русской православной церкви было при- нято иоаннитов именовать хлыстами-киселевцами, или хлыстами киселевского толка. Основательница секты М. Киселева и все ее приближенные были объявлены распространителями лжеучения секты, на месте погребения «Порфирии» запрещены церковные молитвословия, все публикации ионитов были преданы осуждению и признаны еретическими. Помимо этого духовенству, миссионерам и миссионерским учреждениям вменялось в обязанность предотвращать распространение учения хлыстов-киселевцев, вести особый надзор за представителями секты, распространявшими ионитскую литературу, и пресекать «вредную деятельность» всеми законными способами [2; 3].
Однако, несмотря на все запреты, иоанниты продолжали свое существование еще долгое время, демонстрируя определенные успехи в распространении своего лжеучения на окраинах империи.
Так, еще 7 июня 1901 г. на улицах г. Чита в витринах для объявлений появились прокламации, направленные против православного духовенства и свидетельствующие о появлении секты ионитов. Содержание прокламаций было подробно описано епископом Забайкальским и Нерчинским от 12 июня 1901 г. в письме митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию: «Почтительнейше доношу Вашему Высокопреосвященству о следующем прискорбном факте церковно-общественной жизни. 7 июня сего года на улицах Читы в витринах для объявлений появились писанные печатными буквами прокламации следующего содержания: Иисус Христос с апостолами ходил пешком, а наш нынешний Святой Иоанн Кронштадтский нажил себе пароход и на своем пароходе катается. Опомнись Русский народ! Перестань кормить этих крохоборов и дармоедов. Они не сеют и не жнут, а живут и кушают лучше тебя. Обманывает эта тварь тебя на каждом шагу и тебя же в душе ненавидит. Ты бьешься как рыба об лед, а долгогривые паразиты на твои крохи наедают животы и строят роскошные дома и, наконец, заводят пароходы. Тебе они обещают и дают все-все что хочешь — только на том свете, а сами всеми силами стараются прожить на этом свете здесь. Опомнись Православный люд! Гони от себя эту подлую, наглую и алчную породу. Гони от себя этих воров и обманщиков, наглых тунеядцев. Опомнившийся христианин» 1 . Об изъятии прокламаций и розыске виновных было сообщено епископом губернатору Забайкальской области и начальнику Забайкальского жандармского полицейского управления, Читинская духовная консистория, в свою очередь, уведомила прокурора Читинского окружного суда и Читинского полицмейстера.
Однако последующая переписка между ведомствами никаких успехов не принесла, виновные не были обнаружены. Интересен тот факт, что десятилетие спустя один из православных священников вагона-церкви № 143 подготовил рапорт Читинской духовной консистории, где сообщает о продаже иоаннитской литературы вверенной ему церкви неким Гавриилом Дмитриевичем2. В этом же году у казака Лаврентия Шадрина были изъяты портреты Кисилевой и Пустош-кина1. Последователи Иоанна Кроншдадтского не только продолжили свое существование, но и были культивированы на другие территории.
Так, в 1919 г. жители г. Читы, Карымской, Оловянной, Борзи, Бочкарево Нерчинского уезда, станций Зубарево, Урульга, Застепнинская, разъездов по КВЖД и других мест, пострадавшие от революционных событий, от власти атамана Семенова, прибыли на ст. Боярск близ оз. Байкал и в глухих лесах Хамар-Дабана образовали скит крестьян-богомольцев. Отшельническая жизнь наложила отпечаток на сознание верующих, суровая природная среда превратила тайную общину в поселение нищих и обездоленных. Уйдя от революции и гражданской войны, они надеялись на лучшую долю. Однако их надежды не оправдались, условий для развития сельского хозяйства не было, в общине, состоящей из около сотни людей, была установлена жесткая дисциплина. На заработки и сбор подаяний отправлялись наиболее проверенные адепты, которые в основном обменивали на продукты свое имущество. Завершили дело по разложению общины представители органов ОГПУ–НКВД. Внедренные осведомители наблюдали за жизнью и умонастроениями сектантов. Попытки разгона странных верующих не приводили к нужному результату, и только после ареста и отдачи под суд руководителей общины, изъятия всей богослужебной литературы люди стали покидать скит и расселяться в населенных пунктах, преимущественно в Боярске и Мысовой [6, с. 10–11]. К середине ХХ в. власти разогнали общину, и только один из них Дмитрий Чертогон продолжал жить в тайге, где и умер. На этом закончилась история тайного скита иоаннитов на территории Бурятии.
В заключение отметим, что многообразие вероисповеданий стало одной из исторических особенностей России, территорию которой населяют разные народы. Религиозный плюрализм стал фактом, с которым российское законодательство вынуждено было считаться в начале ХХ в. Революционные события 1905–1907 гг., становление системы российского парламентаризма, демократизация различных сторон жизни общества ускорили этот процесс. Свобода вероисповеданий, декларированная в Указе императора Николая II, не только легализовала и активизировала деятельность многих сектантских общин, но и повлияла на создание новых.
Список литературы Вероисповедная политика государства по отношению к «новым сектам» в Забайкалье в начале ХХ в
- Ахмадулина С. З. Правовое регулирование деятельности нетрадиционных религий в России (на материалах Республики Бурятия). Улан-Удэ, 2019. 280 с. Текст: непосредственный. EDN: KUOGUH
- Булгаков С. В. Справочник по ересям, сектам и расколам. Москва, 2014. 951 с. Текст: непосредственный.
- ГАЗК. Ф 8. Оп. 1. Д. 1007. Л. 44.
- Голубев С. Т. Секта "Новый Израиль": (по поводу ламентаций прогрессивной печати о преследовании означенной секты) // Церковные ведомости. Санкт-Петербург: Синодальная тип., 1911. 78 с. Текст: непосредственный.
- Пинкевич В. К. Вероисповедные реформы в России в период думской монархии (1906-1917 гг.). Москва: Агент, 2000. 192 с. Текст: непосредственный.
- Сафонов А. А. Указ 17 апреля 1905 г. "Об укреплении начал веротерпимости" в оценках светской и церковной общественности России начала XX в. // Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: материалы научно-практической конференции памяти профессора Ф. М. Рудинского (Москва, 24 апреля 2014 г.). Москва, 2014. С. 337-344. Текст: непосредственный.
- Тиваненко А. В. Отшельники Хамар-Дабана, или история тайной секты ионитов. Чита: Экспресс-издательство, 2010. 172 с. Текст: непосредственный.