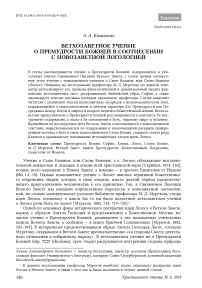Ветхозаветное учение о премудрости Божией в соотнесении с новозаветной логологией
Автор: Ковалевич Антон Александрович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Библеистика
Статья в выпуске: 3 (86), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается учение о Премудрости Божией, содержащееся в учительных книгах Священного Писания Ветхого Завета, с точки зрения соотнесения этого учения с новозаветным учением о Сыне Божием, или Слове Божием (Логосе). Опираясь на исследование профессора М. Д. Муретова по данной теме, автор актуализирует его, проводя филологический и сравнительный анализ важнейших ветхозаветных мест, раскрывающих библейский образ Софии, а также анализирует генезис научных взглядов уважаемого профессора. Статья знакомит читателя с развитием мысли ветхозаветных мудрецов о несамозамкнутости Бога, выражающейся в самостоятельном и личном характере Его Премудрости как Посредника между Богом и миром и второго момента Божественной жизни. Ветхозаветное представление о Премудрости Божией рассматривается в контексте Ее внутреннего содержания, а также в Ее отношении к Богу, тварному миру и человеку. Важнейшие из исследуемых мест Ветхого Завета сопоставляются с новозаветными текстами, параллельными им по содержанию и помогающими раскрыть прикровенные истины о Боге в свете воплотившегося Слова Божия, ставшего своего рода Ключом к правильному пониманию ветхозаветных следов идеи Логоса.
Премудрость божия, софия, хокма, логос, слово божие, м. д. муретов, ветхий завет, книги премудрости, божественный посредник, евангелие от иоанна
Короткий адрес: https://sciup.org/140246708
IDR: 140246708 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10051
Текст научной статьи Ветхозаветное учение о премудрости Божией в соотнесении с новозаветной логологией
и само существо Божественного Логоса. Таким образом, ветхозаветное «священное умозрение о Хокме», по выражению М. Д. Муретова, «вводит нас во внутреннюю жизнь Самого Божества», представляя «некоторого рода процесс Божественного само-различения или зерно Иоанновской идеи Логоса как второго момента Божественной жизни» [Муретов, 1882, 451–452].
Признавая основным источником происхождения и «последним основанием» ветхозаветного учения о Премудрости сверхъестественное откровение, профессор Муретов, однако, не исключает и «участие естественных факторов в образовании и развитии» данного учения. По мнению ученого, отправной точкой в происхождении ветхозаветной идеи Премудрости, которое с естественной стороны аналогично возникновению любой философской системы, «служит внутренний психологический опыт человека». Осознавая себя разумным существом, для которого разум является «основным и руководящим началом» всей жизнедеятельности, человек это «внутреннее и субъективное начало разумности» переносит «на весь объективный мир», т. е. «по аналогии с самим собою… полагает ум в основу всей мировой жизни». Так, по мысли Муретова, в древнегреческой философии «возникла идея Логоса или Нуса», и подобным же образом появилось «ветхозаветное представление о Хокме» [Муретов, 1882, 452].
Священные писатели учительных книг Ветхого Завета и, в частности, книг Премудрости часто указывают на разум, или мудрость, как на «высшее и основное начало всего существа человека». Отмечая премудрый характер и устройство ветхозаветной теократии и «превознося мудрость закона израильского перед законами других наро-дов»2, мысль библейских авторов, по выражению профессора Муретова, «естественно переходит к общей, царствующей во всем мире разумности и целесообразности». «Строгая законосообразность во всех явлениях природы, стройное течение мировой жизни», ее продуманная постепенность и последовательность — все это, по замечанию ученого, с чувством живого и трепетного восторга описывается в ветхозаветных книгах (особенно в книге Иова и псалмах 64 и 103). Так, под Божественным руководством у библейских мудрецов возникает «представление о Хокме, или Премудрости, как основном начале», действующем как «в жизни каждого отдельного человека», так и «в истории всех народов и особенно народа Божия» и вообще во всей вселенной [Муретов, 1882, 452–453]3.
Однако «священное умозрение о Хокме», по мысли М. Д. Муретова, не останавливается лишь на «признании разумности объективного миропорядка, или твар-но-объективной (космической) премудрости». В отличие от греческой философии, которая не смогла выйти за рамки представления о Логосе как об «имманентном миру разуме», вдохновенная Богом мысль библейских мудрецов «возвышается до идеи трансцендентной миру Премудрости Божией». Поскольку священнописатели благодаря откровению свыше представляли Бога «как личного и внемирного Творца и Промыслителя вселенной», то и «созерцание космической и тварно-объективной премудрости» возводило их мысль «к Премудрости Божественной и внемирной, по отношению к Которой первая является только Ее отражением и произведением». Премудрость эта описывается ветхозаветными авторами как Посредница внутренней жизни Бога и «всех Его отношений к тварно-конечному миру». Так, по словам Муре-това, мы встречаем здесь «неизвестное греческой философии различение в Божестве двойственности моментов Его жизни», предпосылку и «зародыш новозаветной идеи Логоса как внемирного открывателя и посредника Божественной жизни» и деятельности [Муретов, 1882, 453].
Ветхозаветное представление о Премудрости Божией, согласно профессору Муре-тову, излагается в двух канонических книгах Ветхого Завета: Иова и Притчей Соломона, и в трех неканонических: пророка Варуха, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и Премудрости Соломона [Муретов, 1882, 454]4. Вследствие большого объема не представляется необходимым рассматривать все ветхозаветные места, в которых описывается Божественный и личный характер Премудрости и которые М. Д. Муретов приводит в своей работе в рамках полемики с отрицательной библейской критикой. Ниже будут рассмотрены только основные тексты, которые раскрывают внутреннее содержание Премудрости Божией (какова Она есть Сама в Себе) и Ее отношение к Богу, миру и человеку.
1.1. Премудрость и ее внутреннее содержание
Внутреннее содержание Премудрости Божией, т. е. какой Она предстает Сама в Себе, раскрывается в книге Премудрости Соломона (см. Прем 7:22–30). Так, положением, что «в ней есть (по другим чтениям — „она есть“. — А. К. ) дух» (ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα)5 (Прем 7:22), описывается «духовность существа Софии в противоположность Ее всему материальному и чувственному», так что Премудрость имеет «чистую духовную природу», какой обладает, по ветхозаветному представлению, Сам Бог. Но поскольку духовное существо может мыслиться лишь в форме личного бытия, то также косвенно утверждается и «объективная личность Премудро-сти»6 Божией, что видно из наименования Ее «духом разумным» (πνεῦμα νοερόν) (Прем 7:22)7 [Муретов, 1882, 468–469].
Приписываемые Премудрости разумность и святость (νοερόν, ἅγιον) (Прем 7:22), согласно Муретову, необходимо понимать следующим образом. Эпитет «разумный» (νοερόν) указывает на разумность Софии, т. е. на «познавательно-теоретическую сторону» Ее духа, в то время как прилагательное «святой» (ἅγιον) говорит о стороне «нравственно-практической»8. Таким образом, Премудрости усваиваются два основных свойства личности: разум и свобода [Муретов, 1882, 465, 469–470].
Следующие эпитеты (μονογενές, πολυμερές) наделяют Премудрость такими качествами, как «единородность» и «многочастность». В первом случае («единородный», μονογενές) София выделяется из ряда тварно-конечных духов (ангелов и людей) как нечто такое, подобного чему «нет и быть не может», как то, что единично по своей природе. Во втором же случае («многочастный», πολυμερές) раскрывается действенность духа Премудрости, его многообразное и многочастное проявление во всех сферах бытия9. Надо отметить, что относительно первого эпитета («единородный», μονογενές) у исследователей нет согласного мнения: так, одни10 переводят его в противоположность второму эпитету прилагательным einfach, т. е. «простой», «несложный», а другие11 — как «единственный в своем роде», что подтверждается переводом этого предиката в Вульгате как unicus. Из приведенных мнений, по мысли профессора
Муретова, только второе заслуживает внимания, поскольку имеет под собою филологические основания [Муретов, 1882, 470].
Далее Премудрость изображается как дух «тонкий» (λεπτόν) и «удобоподвижный» (εὐκίνητον). Данные эпитеты усваивают Ей «острый разум», для деятельности которого не существует никаких «пространственных и временных отношений». При этом прилагательное «тонкий» понимается в смысле «тонкой, нематериальной сущности», а благодаря «удобоподвижности» Премудрость, как сказано далее в той же главе (Прем 7:24), «подвижнее всякого движения» и «по чистоте своей» способна «всё проникать и сквозь всё проходить»12 [Муретов, 1882, 470–471].
Дальнейшие эпитеты («светлый, чистый, ясный» — τρανόν, ἀμόλυντον, σαφές) (Прем 7:22) выражают чистоту Софии «как в нравственном, так и в метафизическом отношении», так что Она предстает здесь в образе «чистейшего света» (ср. Прем 7:25, 26, 29). Премудрость изображается как дух «невредительный» (ἀπήμαντον) (Прем 7:22), т. е. не подверженный никакому изменению, которое свойственно тварно-конечному бытию13, а также как дух «скорый, неудержимый» (ὀξύ, ἀκώλυτον) (Прем 7:22 или 7:22, 23 — по LXX), т. е. действующий быстро, остро (как сказано в церковнославянском тексте) и беспрепятственно, что описывает «метафизическую сторону действенности» Хокмы [Муретов, 1882, 471].
Следующими эпитетами описывается нравственная сторона деятельности Божественной Премудрости. Так, предикаты «благолюбивый» (φιλάγαθον) (Прем 7:22), «благодетельный, человеколюбивый» (εὐεργετικόν, φιλάνθρωπον) (Прем 7:23) обозначают доброту и благость Софии, особенно по отношению к человеку, как существу богоподобному и «более других тварей отражающему в себе природу» Премудрости. Безошибочность и непоколебимость Хокмы в Ее действиях описывают, по мысли Муретова, прилагательные «твердый» и «непоколебимый» (βέβαιον, ἀσφαλές)14, а эпитеты «беспечальный» (ἀμέριμνον), «всесильный»15 (παντοδύναμον) и «всевидящий» (πανεπίσκοπον) утверждают «Божественное свойство духа Премудрости — его безусловность», поскольку София самодостаточна и ни в чем не имеет нужды, не ограничена ничем в Своих намерениях и действиях и является всезнающей и «всенаблюда-ющей» по отношению ко всему творению (ср. Прем 7:27; 9:11) [Муретов, 1882, 471–472].
Таким образом, Божественная Премудрость обладает «совершеннейшим разумом (νοερόν)» и «святейшею волею (ἅγιον)»; Ей принадлежит особое и индивидуальное бытие (μονογενές), проявляющееся в «многообразии и многосторонности Ее деятельности (πολυμερές)». Софию характеризуют «абсолютная нравственная и метафизическая чистота, любовь к добру и этические отношения к твари, абсолютность, всемогущество и всеведение». Все эти предикаты с очевидностью указывают на личное и Божественное Существо, что исключает неверное представление о Хокме как о безличной абстрактной идее (как то: человеческая мудрость, космический разум, ветхозаветный закон) [Муретов, 1882, 472]. Таково внутреннее содержание Премудрости Божией.
1.2. Премудрость в отношении к богу
Премудрость не является ни субъективным Божественным разумом, ни Божественной мыслью — Она отчетливо отличается от совокупности Божественных идей и знаний. Подобно тому как Божественный разум является иногда объектом познавательной деятельности Премудрости, так и наоборот — Премудрость иногда становится объектом для Божественного разума. Так, Премудрость называется «таинницею» Божественного разума (μύστις γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ ἐπιστήμης) (Прем 8:4). Ей, таким образом, усваивается «проникновение во все тайны Божественных помышлений и намерений», что, безусловно, было бы странно, если бы Премудрость совпадала с этими помышлениями и намерениями [Муретов, 1882, 473].
Премудрость, по слову М. Д. Муретова, есть «объективировавшийся Божественный разум, открывшаяся во вне и осуществившаяся в другом идея Бога о Себе Самом», т. е. именно то, что составляет содержание и новозаветной идеи Логоса. В этом смысле в некоторых местах Ветхого Завета Она Сама представляется «объективною по отношению к Божественному разуму, как нечто такое, что составляет предмет Божественного ведения» [Муретов, 1882, 473–474] (см. Иов 28:23–27; Вар 3:32, 37; Сир 1:6–10).
В таком же отношении к Божеству стоит Премудрость и по способу Своего происхождения. Ей усваивается домирное и вечное бытие от Бога (см. Притч 8:22–26; Сир 1:4, 8, 9; 24:3, 8; Прем 7:25). Отсюда происхождение Премудрости не совпадает с образованием мира, поскольку, когда образовался мир, Она уже существовала у Бога и рядом с Богом. Таким образом, вечность Премудрости определяется как бытие, предшествующее всем частным моментам творения мира (см. Притч 8:24–26) [Муре-тов, 1882, 474].
Примечательно следующее филологическое замечание Муретова. Для отличия от акта творения мира, который обозначается в Притч 8:26 еврейским глаголом asah, и для выделения «из ряда тварно-конечных существ» Соломон в описании происхождения Хокмы использует глагол kanah (Притч 8:22), который имеет здесь значение «приобрел», «произвел для себя»16 [Муретов, 1882, 475–476, 479]. Весьма значимы и другие два глагола, употребленные в еврейском тексте книги Притч по отношению к Премудрости: nissachti (8:23) и cholalti (8:24, 25). Глагол nissachti, как отмечает Му-ретов, ссылаясь на известного немецкого библеиста Франца Делича (Franz Delitzsch), вызывает много несогласований среди переводчиков этого стиха17. Так, в Септуагинте он переведен как ἐθεμελίωσέν (от θεμελιόω — «класть на основание», т. е. «основывать, утверждать»); в Пс 2:6 варианта LXX тот же глагол переведен как κατεστάθην (от καθίστημι — «ставить, устанавливать, учреждать, назначать»), такой же перевод дает и Акила в Притч 8:23; Симмах переводит как προκεχείρισμαι (значение не ясно); в Вульгате — ordinata sum (от ordinare — «приводить в порядок, устраивать, назначать, составлять; учреждать, основывать») (в церковнославянском переводе Елизаветинской Библии — «основа́ мя»; в русском Синодальном переводе — «я помазана»; в сербском переводе Даничича, к которому автор статьи также обращался, — «постављена сам», т. е. «я назначена, поставлена»). Основное же значение евр. nisach, от которого происходит nissachti, — «изливать» — указывает на «растопленные металлы, из которых выливались идолы языческих богов» (ср. Исх 30:9; 32:3–4; Нав 2:18; Суд 17:4; Ис 40:19; 44:10; 48:5). Отсюда этот глагол употребляется по отношению к жертвам возлияния (см. Иоил 1:9), а «в дальнейшем значении… указывает на излияние елея и помазание при освящении царей» (так о Мессии говорится в Пс 2:618), откуда происходит его более общее понимание — «назначать, избирать, поставлять на должность» [Муретов, 1882, 479]. Как было показано выше, все эти значения использованы в древних переводах. Основное же и буквальное значение евр. nissachti отражено лишь в так называемом Венецианском кодексе XIII–XIV в. (Graecus Venetus)19, а именно — посредством глагола κέχυμαι [Муретов, 1882, 479] (от χέω — «лить, струить, проливать, возливать, совершать возлияние»).
Таким образом, как заключает Муретов, если следовать переводу LXX, то «смысл 23-го стиха будет тождественен 22-му стиху»: Премудрость, взятая Господом «в основу, фундамент или принцип» Его деятельности, находится во внутреннем, имманентном отношении к Божеству. Буквальный же перевод — κέχυμαι, «я излита» — указывает на «внутреннее происхождение Хокмы из существа Божия» в христианском смысле исхождения Святого Духа от Бога или рождения Сына от Отца [Муретов, 1882, 479–480].
В отличие от творения мира из ничего, образ происхождения Премудрости представляется как «вечный, вне времени совершающийся акт рождения» от Бога подобно рождению единородного Сына из недра Отца, описанному св. Иоанном Богословом (см. Ин 1:18). На это указывает евр. глагол cholalti — «я рождена» (Притч 8:24, 25), который переведен в Септуагинте как γεννᾷ με, в Вульгате — concepta eram (8:24) (pass. от concipio — «зачать, стать беременной; образоваться, происходить, появляться, возникать»), но более точно в следующем стихе — parturiebar (8:25) («родилась в муках», pass. от parturio — «мучиться родами, рожать»), а также у Акилы и Феодотиона — ὠδινήθην, и в Graecus Venetus — ὠδίνημαι (от ὠδίνω — «испытывать родовые муки, мучиться в родах, рожать в муках»). Так, cholalti, отмечает Муретов, ссылаясь на Гезениуса (Gesenius)20, обозначает «физический акт рождения… муки и корчи родительницы и почти всегда употребляется в собственном значении». Премудрость и далее (8:30–31) изображается «как рожденное Иеговою дитя», если евр. amon («принимать») согласно некоторым переводам, в значении «питомец, воспитанница», как лат. alumnus — «дитя, которое радуется и играет пред лицом Иеговы» [Муретов, 1882, 480]. Такое значение существительное amon получает, если его производить от евр. глагола aman — «утверждать, охранять, радеть» (т. е. «заботиться, опекать»), который в pass. med. означает «питомец, нежно охраняемое дитя»21 [Муретов, 1882, 489]. Так, подобный перевод дает Акила (8:30) — τιθηνουμένη (ср. с τιθηνούμενοι (Плач 4:5 согласно LXX) — «воспитанные», part. pl. pres. med.-pass. от τιθηνέω (τῐθηνέομαι) — «кормить (грудью), нянчить, заботиться, ухаживать»). Среди переводов Ветхого Завета на современные языки данное значение сохраняет сербский перевод Даничича — «храњеница» («питомец»).
В подобном же контексте, по утверждению Муретова, а именно — «в связи с рассмотренным изображением Хокмы как Сына Божия», некоторыми видными немецкими экзегетами22 понимается вопрос Агура в Притч 30:4: «Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?» В частности, «Эвальд не без основания находит в этом вопросе указание на идею Логоса как первородного Сына Божия»23, отмечая, что полнее эта идея будет выражена в более поздней «иудейской спекуляции о Мемре (Таргумы) и Логосе (Филон)» [Му-ретов, 1882, 480, 482]. Согласно Деличу24, позднейшие иудейские толкователи понимают данное место книги Притч как указание на «causam mediam (посредствующую причину. — А. К.) миротворения, посредствующую демиургическую силу», которую, по мнению немецкого экзегета, беспрепятственно можно отождествить с Премудростью, описываемой в Притч 8 «как рожденное Иеговою дитя или Сын». Профессор Муретов также замечает, что «еврейскому сознанию отнюдь не чуждо было представление о causa media как о Сыне Божием», на что указывают наименование Софии «πνεῦμα μονογενές» в Прем 7:22, а также название Логоса «ὁ πρεσβύτερος υἱὸς τοῦ θεοῦ» у Филона Александрийского и «ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ πατρὸς» у апостола Иоанна (см. Ин 1:18) [Муретов, 1882, 482].
Возвращаясь же к вопросу о переводе евр. amon, Муретов пишет, что больше оснований под собой имеет другое значение данного слова, которое «сообразнее с контекстом речи», а именно — лат. opifex («мастер, художник, создатель, ремесленник»), греч. τεχνῖτις («искусница, мастерица»)25. Такое значение оно имеет в Иер 52:15 и Песн 7:2. Также верность этого значения подтверждают переводы Прит 8:30: LXX (ἁρμόζουσα, part. sg. pres. act. fem. от ἁρμόζω — «сплачивать, скреплять, прилаживать (т. е. обустраивать, приводить в порядок)»), Пешитта, Вульгата Иеронима (cuncta («всё вместе, в целом, в совокупности») componens («собирающая, соединяющая, составля-ющая»))26, а также именование Софии «художницей всего» (ἡ πάντων τεχνῖτις σοφία) в Прем 7:21 (ср. Прем 8:6) [Муретов, 1882, 490]. Данный перевод евр. amon говорит больше о деятельном и творческом участии Премудрости Божией в творении Богом мира, о чем подробнее будет сказано ниже.
Интересен и образ происхождения Премудрости, представленный в неканонических ветхозаветных книгах. Так, в Сир 24:3 Премудрость говорит о Себе, что Она «вышла из уст Всевышнего» (ἐγὼ ἀπὸ στόματος ὑψίστου ἐξῆλθον), что представляется аналогичным исхождению слова из человеческих уст. Следовательно, как Божественное слово Она «стоит к Божеству в таком же отношении, в каком Логос стоит к Богу у евангелиста Иоанна». Автор книги Премудрости Соломона называет Премудрость «дыханием силы Божией» (ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως) (Прем 7:25). Согласно данному образу, Премудрость «составляет во внутренней жизни Божества такой же существенный момент, как дыхание в жизни человека». Далее в том же стихе Она именуется «чистым излиянием славы Вседержителя» (ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής) (Прем 7:25). Ссылаясь на Гримма27 и Гутберлета28, Му-ретов утверждает, что данный «образ заимствован или от излияния воды из источника, или же от истечения света из светящегося предмета», что указывает на «непосредственно близкую связь и единосущие Премудрости с Божеством» [Муретов, 1882, 483].
Таким образом, подобными чертами ветхозаветные мудрецы усваивают Премудрости, с одной стороны, сущностное единство с Богом, а с другой — «самостоятельно-личное и ипостасное бытие». Далее представляется важным привести обширную цитату из исследуемой работы М. Д. Муретова, которая представляет собой своего рода обобщение и заключение к вышесказанному и отражает стройную мысль и высокий литературный стиль уважаемого профессора. «Как безначально рожденный из существа Бога-Отца единородный Сын Божий, Премудрость должна унаследовать субстанцию Своего Божественного Родителя; как от вечности изреченное и исшедшее из уст Божиих Слово, Она должна воплощать в Себе природу Говорящего; как дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, Она должна обладать такой же сущностью, как и Ее Божественный Первоисточник, из которого Она исходит и истекает». Однако «такое субстанциальное единство Премудрости с Божеством нельзя простирать до слияния их в одну нераздельную ипостась: Сын, рожденный Отцом, имеет отличную от Отца личность; слово, исшедшее из уст говорящего, не тождественно с тем, кто его произносит; поток, текущий из источника, образует самостоятельную реку» [Муретов, 1882, 483–484].
Теперь необходимо рассмотреть, в каком отношении к Богу находится Премудрость относительно внутреннего содержания Ее жизни. Ответ на этот вопрос можно найти в «полных глубокого смысла образах», заимствованных из «световых явлений в природе» и описанных в Прем 7:26 [Муретов, 1882, 484].
Так, Премудрость называется «отблеском вечного света» (ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀϊδίου) (Прем 7:26а), где под вечным светом, согласно Муретову, понимается «верховное Существо, как первоисточник и начало Божественной жизни — новозаветный Бог-Отец, от Которого рождается Сын и исходит Дух». Некоторые экзегеты, отмечает профессор, понимают это название Божества в собственном значении — в смысле гностического и более позднего «каббалистического представления Бога в форме физического светового существа, из которого эманатически в виде лучей исходят низшие световые сущности (эоны или зефироты)». Однако же подобное грубое и материальное представление о Боге чуждо Ветхому Завету, где Бог, нередко изображаемый в лучах небесного света (см. Исх 24:17; Иез 1:27–28; Авв 3:3–4 и др.), никогда прямо не называется светом. Даже Филон Александрийский, который, по слову М. Д. Муретова, является родоначальником гностицизма и постоянно пользуется «образом света для уяснения сущности Божества», всегда понимает под ним «бестелесный, духовный, умный свет». Таким образом, наименование Бога «вечным светом» необходимо понимать в метафорическом смысле29. Что же касается понятия «отблеск», его надо понимать «как lux repercussa, splendor reflexus, Abglanz, отблеск или объективный отраженный свет, изображение светящегося предмета». Этим, по мысли русского экзегета, «выражается объективное бытие Софии по отношению к Верховному Божеству и Ее адекватное подобие» Ему [Муретов, 1882, 484–485]30.
Далее Премудрость называется «чистым зеркалом действия Божия» (ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας) (Прем 7:26b). Согласно этому образу, Премудрость, будучи точным и совершенным отражением Божественного света, «адекватно воспроизводит в Себе все необъятное содержание Божественной действенности; как в чистом зеркале, в Софии концентрируется и осуществляется вся бесконечная полнота Божественной энергии, силы и всемогущества». Относительно Своей нравственной жизни Премудрость именуется «образом благости» Божией (εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος) (Прем 7:26c), т. е. образом «нравственных совершенств, выражением и содержанием которых служит Божественная благость» [Муретов, 1882, 486].
Согласно описанным выше характеристикам, Премудрость, по мысли Муретова, «должна обладать Божественной природой», заключать в себе все, что имеет Ее Первообраз, и, следовательно, «быть истинным Богом». Однако, будучи уже отраженным образом, Она не совпадает полностью со Своим Первообразом, но выделяется из Него и «объективируется в самостоятельную форму бытия». Она «становится вторичным светом», который, хоть и является адекватным первичному свету по содержанию , все же отличается от него « по форме св оего бытия, т. е. второй Божественной Ипостасью».
Отсюда, если содержание Божественной Премудрости (Ее безусловность) не исчерпывается понятием разума, осуществляющегося [лишь] в тварно-конечном мире, то форма Ее бытия (Ее личность) «никоим образом не мирится с представлением о безличном Божественном свойстве». Так, заключает М. Д. Муретов, все эти образные выражения по отношению к Премудрости необходимо понимать в смысле новозаветных образов: «сияние славы и образ ипостаси Его» (ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ) (Евр 1:3) и «образ Бога невидимого» (εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου) (Кол 1:15) [Муретов, 1882, 486–487].
По Своему внешнему достоинству и власти Премудрость в отношении Бога представляется «в качестве равночестного Ему и равноправного соправителя» (см. Сир 1:1) и обитает там, где, согласно ветхозаветному представлению, находится престол Самого Яхве (см. Сир 24:4; Вар 3:29). В Прем 8:3–4 Она изображается женой Бога, которой открыты все «думы и намерения ее Божественного Супруга»; более того, Она имеет «решающий и совещательный голос» во всех делах Божиих и «разделяет с Богом Его власть и могущество в мире», «приседя» престолу Божию, т. е. сидя подле Него и даже вместе с Ним (ср. Прем 9:4: «приседящую престолу Твоему премудрость», греч. ἡ τῶν σῶν θρόνων πάρεδρος σοφία)31. Однако, обладая «всей полнотой Божественной власти и величия», Премудрость самостоятельна по отношению к Богу: «Она с Богом и при Боге , но не в Боге ». Таким образом, Премудрость обладает Божественным достоинством, но уже как вторая Божественная Ипостась, отличная от Ипостаси Бога-Отца [Муретов, 1882, 487–488].
1.3. Премудрость в отношении к миру и человеку
В отношении к миру Премудрость, согласно Муретову, изображается в книгах Ветхого Завета как «творческая и промыслительная» сила. Так, Иов говорит об участии Премудрости в творении мира, когда Бог давал законы природе (см. Иов 28:25–27). Книга Притч повествует, что «Господь Премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; Его Премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою» (Притч 3:19– 20). Премудрый Сирах в таком же смысле указывает, что Бог «излил Ее на все дела Свои и на всякую плоть по дару Своему» (Сир 1:9–10). Премудрость называется «родительницею» (γενέτις) и «художницею всего» (ἡ πάντων τεχνῖτις) (Прем 7:12, 21; ср. 8:6), Она присутствовала, когда Бог творил мир (παροῦσα ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον) (Прем 9:9) [Муретов, 1882, 488].
Премудрость присутствовала во всех частных моментах творения мира не праздно, не пассивно, не как мертвая идея или бездейственный образец, но как творческая и активная сила (см. Прит 8:30–31). Заключенный в Божественном разуме творческий план Она приводила из идеальной действительности в реальную, «художественно осуществляя в мире идеальные образцы единичных» вещей. Таким образом, Она «была посредствующей причиной или демиургической силой, которой Иегова пользовался при создании мира», о чем было уже несколько сказано выше. Здесь, по мысли профессора Муретова, открывается «полная параллель с новозаветным учением о Логосе как посреднике творения мира» (см. Ин 1:3; Кол 1:16–17) [Муретов, 1882, 490–491].
Однако Премудрость является не только миротворческой, но и «миропромыс-лительной» силой. Сотворив мир, Она не устранилась, но охраняет его и наблюдает за творением, покрывая землю как облако (см. Сир 24:3, 5–6). Премудрость «все проходит и все проникает», все устраивает на пользу и является деятельной причиной («виновницей» — γενέτις) происходящего в мире (см. Прем 7:24; 8:1; 7:12). Но все эти промыслительные действия Премудрости нельзя понимать в «стоическо-пантеистическом смысле», как указание на действия имманентного миру Божественного разума. Сообразуясь с ветхозаветными воззрениями, необходимо видеть здесь не сущностное (субстанциальное), а только действенное присутствие Софии в мире. Это согласуется с библейским учением о вездеприсутствии Божества и учением Нового Завета о присутствии Логоса в мире (см. Ин 1:10) [Муретов, 1882, 491].
В особенно же близких отношениях Премудрость находится с людьми, поскольку «человек является исключительным предметом забот и попечений» Софии (см. Притч 8:31). Так, Премудрости, как и новозаветному Логосу, принадлежит «имманентное действие на человеческий дух в качестве врожденного… образа Божия», внутреннего нравственно-разумного принципа жизни человека, а также Она называется источником всех благ человека и «научает людей познанию воли Творца» и добродетелям (см. Сир 1:9–10; Прем 7:12, 27; 8:7; 9:9–19) [Муретов, 1882, 491–492].
Однако, помимо участия в жизни каждого человека и всего человечества в целом, особенное попечение Премудрости касалось избранного народа Божия. Так, в книге Варуха говорится, что Бог даровал Премудрость «рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю» (Вар 3:37) и что именно в Премудрости, по мысли М. Д. Муре-това, «Он явился на земле и обращался между людьми» (ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη) (Вар 3:38), причем явился видимым образом, на что указывает глагол ὤφθη (3rd sg. aor. ind. pass. от ὁράω — «видеть, воспринимать зрением, смотреть, созерцать»), т. е., дословно, виделся, созерцался, был видим, и при том столь же явно действовал среди людей, о чем говорит глагол συνανεστράφη (3rd sg. aor. 2 ind. pass. от συν-αναστρέφω в его med.-pass. значении — «находиться в связи, жить вместе, общаться»), т. е. находился между людьми, жил и общался с ними. Премудрость, согласно Сираху, по повелению Творца вселенной поселилась в Иакове и приняла наследие в Израиле (см. Сир 24:8–9); Она служила перед лицом Господа «во святой скинии и основалась в Сионе, обрела покой… и утвердила власть Свою в Иерусалиме» (Сир 24:11–13). Божественная София принимала личное участие во всей истории ветхозаветной теократии (Прем 10:1–11:4) [Муретов, 1882, 492].
Так, вся промыслительная деятельность Премудрости Божией, по замечанию М. Д. Муретова, «с непререкаемой очевидностью» предполагает в Ней личное и самостоятельное существо, отличающееся от Яхве ипостасью. Более того, представленные выше положения указывают на «точку соприкосновения» ветхозаветного учения о Хокме с учением об Ангеле Господнем как личном «руководителе ветхозаветной теократии», с одной стороны, и «с новозаветным (см. Ин 1:11) представлением о еврейском народе как собственности (οἱ ἴδιοι) Божественного Логоса», с другой [Муре-тов, 1882, 492–493].
Итак, рассмотрев достаточно подробно и детально учение о Премудрости Божией в Ветхом Завете, мы находим довольно явные параллели с новозаветной идеей Логоса. Однако сами по себе эти разрозненные следы и указания, по мысли Муретова, зачастую были весьма неопределенными, а в некоторых местах и противоречивыми, так что самостоятельно привести к возникновению определенного учения о Логосе они не могли. Для этого необходимо было особое и непосредственное откровение Самого Божественного Логоса, которое и произошло в Его пришествии в мир и Воплощении. «Только Сам воплотившийся Логос», по слову профессора Муретова, стал «ключом» к раскрытию «тайн ветхозаветной логологии» и дал людям возможность правильно понимать ветхозаветные следы идеи Логоса [Муретов, 1882, 720, 721–722].
Список литературы Ветхозаветное учение о премудрости Божией в соотнесении с новозаветной логологией
- Biblia Hebraica Stuttgartensia / Ed. K. Elliger, W. Rudolph. 4. Aufl. ed. H. P. Rüger. Stuttgart, 1990.
- Biblia sacra: iuxta Vulgatam versionem / Ed. B. Fischer, R. Weber et al. 4. Aufl. ed. R. Gryson. Stuttgart, 1994. Теология 149
- Graecus Venetus: Pentateuchi, Proverbiorum, Ruth, Cantici, Ecclesiastae, Threnorum, Danielis versio Graeca: ex unico Bibliothecae S. Marci Venetae codice / Ed. O. Gebhardt; praef. F. Delitzsch. Lipsiae, 1875.
- Origenes. Hexaplorum quae supersunt; sive Veterum interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum fragmenta / Ed. F. Field. T. II: Jobus - Malachias. Oxonii, 1875.
- Septuaginta: Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes / Ed. A. Rahlfs. Vol. 1-2 (in 1 vol.). Stuttgart, 1979.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. В Синодальном переводе. М.: Российское Библейское общество, 2012.
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. М.: Российское Библейское общество, 2010.
- Свето писмо Старога и Новога Завјета: Библија / [Свето писмо Старог Завјета превео Ђура Даничић, Свето писмо Новог Завјета превод Комисије Светог архијерејског синода Српске Православне Цркве. Садржи и: Књиге ширег канона (Девтероканонске) / Превели митрополит Црногорско-Приморски Амфилохије (Радовић), епископ Захумско-Херцеговачки Атанасије (Јевтић)]. Београд: Свети архијерејски синод Српске Православне Цркве, 2011. литература
- Греческо-русский словарь / Сост. А. Д. Вейсман. Изд. 5-е. СПб., 1899.
- Древнегреческо-русский словарь / Сост. И. Х. Дворецкий; под ред. С. И. Соболевского. М., 1958. В 2 т.
- Латинско-русский словарь / Сост. И. Х. Дворецкий. Изд. 2-е, переработ. и доп. М., 1976.
- Муретов М. Д. Идея Логоса в Ветхом Завете // Православное обозрение. 1882. Т. 2. С. 102-140, 451-493, 695-722.
- Скрябин М., прот. Бог-Слово // Труды Киевской духовной академии. 1874. Май. С. 162-188.
- Штейнберг О. Н. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Т. 1: Еврейско-русский. Вильна, 1878.