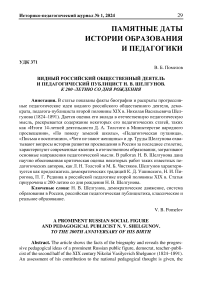Видный российский общественный деятель и педагогический публицист Н. В. Шелгунов. К 200-летию со дня рождения
Автор: Помелов В.Б.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье показаны факты биографии и раскрыты прогрессивные педагогические идеи видного российского общественного деятеля, демократа, педагога-публициста второй половины XIX в. Николая Васильевича Шелгунова (1824-1891). Дается оценка его вклада в отечественную педагогическую мысль, раскрывается содержание некоторых его педагогических статей, таких как «Итоги 14-летней деятельности Д. А. Толстого в Министерстве народного просвещения», «По поводу земской школы», «Педагогическая путаница», «Письма о воспитании», «Чего не знают женщины» и др. Труды Шелгунова охватывают вопросы истории развития просвещения в России за последнее столетие, характеризуют современные явления в отечественном образовании, затрагивают основные направления педагогической мысли. В работах Н. В. Шелгунова дана научно обоснованная критическая оценка некоторых работ таких известных педагогических авторов, как Л. Н. Толстой и М. Б. Чистяков. Шелгунов характеризуется как продолжатель демократических традиций К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, П. Г. Редкина в российской педагогике второй половины XIX в. Статья приурочена к 200-летию со дня рождения Н. В. Шелгунова.
Н. в. шелгунов, демократическое движение, система образования в России, российская педагогическая публицистика, классическое и реальное образование
Короткий адрес: https://sciup.org/140304222
IDR: 140304222 | УДК: 371
Текст научной статьи Видный российский общественный деятель и педагогический публицист Н. В. Шелгунов. К 200-летию со дня рождения
Введение . В 2024 г. исполняется 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Шелгунова. Упоминание о нем в последние десятилетия редко встретишь в отечественной научной литературе. Вполне можно бы было даже сказать, что имя его фактически забыто. А между тем, в свое время это был человек, которого в полной мере называли властителем дум . Его глубоких, проникновенных статей в «толстых» журналах с таким же нетерпением ожидали студенты университетов в 1870–1880-х годы, как в свое время их отцы ждали статей В. Г. Белинского [Помелов, Педагогические идеи…, 2019, с. 11].
Именно Н. В. Шелгунов подхватил знамя прогрессивной российской педагогической мысли, лишившейся своих признанных лидеров в лице К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, П. Г. Редкина и др. [Помелов, Жизнь…, 2023]. Его вклад в историю российской педагогики весьма значителен, и это обстоятельство побудило нас написать обстоятельную статью об этом замечательном человеке, видном общественном деятеле и педагогическом публицисте.
Материалы и методы. В работе над данным материалом автор пользовался аксиологическим научным подходом, позволяющим выделить наиболее ценные стороны деятельности того или иного исторического персонажа, а также стремился к тому, чтобы использовать возможности биографического исследовательского метода, метода анализа научной литературы и трудов самого Н. В. Шелгунова.
Результаты исследования. Николай Васильевич Шелгунов родился в Санкт-Петербурге 22 ноября (4 декабря) 1824 г. в семье чиновника. Прадед и дед Шелгунова были моряками, а отец Василий Иванович служил по гражданскому ведомству; он скоропостижно скончался на охоте, когда Николаю было всего три года. В пять лет мальчик был отдан в Александровский сиротский кадетский корпус. Проявившего незаурядные способности девятилетнего (!) подростка в 1833 г. приняли в Санкт-Петербургский практический лесной институт ведомства министерства финансов. Впоследствии Шелгунов добрым словом вспоминал преподавателей Сорокина и Комарова, друга Белинского; они знакомили своих учеников с произведениями современной прогрессивной русской литературы. В 1837 г. институт был преобразован в Лесной и межевой институт, и стал фактически военным учебным заведением. В этом Шелгунов увидел положительную сторону: армейская муштра, по его словам, развивала чувство товарищества и рыцарства. Теоретические и военные занятия сочетались с выездами на практические работы на Лосиноостровскую лесную дачу в Москве.

Н. В. Шелгунов
В 1841 г. Шелгунов окончил курс по первому разряду с чином подпоручика и званием лесного таксатора. Он поступил на работу по полученной специальности в лесной департамент министерства. В теплое время года Николай Васильевич ездил по всей России, решал вопросы лесоустройства, а зимой готовил но- вые экспедиции и обрабатывал полученные материалы. Так, в 1849 г. Шелгунов был командирован в Симбирскую губернию для устройства лесной дачи.
Постоянные поездки требовали больших физических и моральных усилий, и доставляли много хлопот и неудобств. И хотя работа скудно оплачивалась, но она обогатила Николая знанием разных сторон российской действительности, дала материал для будущих литературных опытов. Первые его статьи, напечатанные в специальных журналах, были по профилю его работы. Он был также автором ряда брошюр, например, «Лесная технология», «Лесоводство для частных владельцев», «История русского лесного законодательства» и др. [Помелов, Российская прогрессивная…, 2020, с. 186].
По делам службы ему пришлось бывать в Самаре, где он познакомился с академиком, действительным статским советником П. П. Пекарским (1827–1872). Это был видный историк и литературовед, автор многочисленных научных работ. Достаточно сказать, что Петр Петрович составил первую подробную биографию М. В. Ломоносова. Именно знакомство с Пекарским произвело переворот в сознании Шелгунова. Он увлекся историей и даже написал большой труд по истории российского лесного законодательства, за который даже получил награду, – бриллиантовый перстень и премию от министерства госиму-ществ.
В 1850 г. Шелгунов женился на проживавшей у издателя журнала
«Сын Отечества» Константина Петровича Масальского (1802–1861) своей двоюродной племяннице Людмиле Петровне Михаэлис (1832– 1901), которая в дальнейшем проявила себя как литератор, мемуаристка, переводчик романов европейских авторов, в частности, Жюля Верна, Чарльза Диккенса и других популярных писателей.

Н. В. Шелгунов с женой, 1861 г.
В 1851 г. Шелгунов возвратился в Санкт-Петербург и снова стал служить в лесном департаменте. В это время у него завязались прочные отношения с представителями литературных кругов. Он подружился с радикально настроенными по отношению к властям литераторами Н. Г. Чернышевским (1828–1889) и М. Л. Михайловым (1829–1865). В 1856 г. Шелгунову предложили место в располагавшемся в Царскосельском уезде Лисинском учебном лесничестве; это было место для проведения практических занятий офицерского класса корпуса лесничих. Шелгунов должен был летом руководить практическими работами, а зимой читать лекции. Но он не считал себя достаточно подготовленным к этим обязанностям, и попросился в заграничную командировку, с тем, чтобы приобрести необходимый опыт в одном из профильных вузов.
Вернувшись в Россию осенью 1857 г., он приступил было к работе в лесничестве. Но в мае 1858 г. ему снова была предложена командировка в Европу, где он пробыл около полутора лет. Большое влияние на формирование общественно-политических взглядов Н. В. Шелгунова сыграло знакомство с произведениями А. И. Герцена и личная встреча с ним в Лондоне.
1860-е годы были насыщены духом революционного демократизма; были временем, когда, «всякий захотел думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильным и задачи громадны. Не только о сегодняшнем дне шла тут речь, – обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России. Во всяком случае, так казалось участникам революционного движения.
Эта заманчивая работа потянула к себе всех более даровитых и способных людей и выдвинула массу молодых публицистов, литераторов и ученых, имена которых навсегда оказались связанными с историей русского просвещения и с блестящим, но коротким моментом
1860-х годов, надолго давшим свое направление умственному движению России» [Струминский…, с. 7– 8].
Печать была в те годы значительной силой, и Шелгунов стремился использовать ее для выражения своих общественно-политических и педагогических взглядов. Его публицистическая деятельность началась в «Современнике», когда во главе его стояли Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский. Наиболее примечательной статьей Шелгунова в этот период стал материал «Рабочий пролетариат в Англии и Франции» («Современник», 1861), в основу которого была положена известная книга Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Получается, что здесь Шелгунов выступил еще во многом как эпигон.
В то же время, это была не только его первая статья, в которой затрагивались педагогические проблемы, но и одна из первых публикаций в российской прессе, где был поднят вопрос о связи воспитания детей с окружающей их социальной средой. Рассматривая вопрос о подготовке к жизни детей пролетариата, Шелгунов убедительно показал, что воспитание ребенка в раннем возрасте, главным образом, зависит от материального положения семьи. Особенно тесно ребенок бывает привязан к матери. Но при капиталистическом строе эта привязанность болезненно разрывается в связи с необходимостью для женщины идти на работу и оставлять ребенка беспризорным.
Значит, делает вывод Н. В. Шелгунов, надо добиваться создания другого общественного строя, при котором женщина получит более благоприятные условия для воспитания своих детей [Поме-лов, Российская педагогика…, с. 218]. В 1861 г. Николай Шелгунов стал совладельцем газеты «Век», что позволило ему непосредственно обращаться к читателям со своими взглядами.
С увлечением изучал Н. В. Шелгунов произведения В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, и в конце 1850-х гг. он примкнул к тайной революционной организации «Земля и воля», в которую входили братья А. А. и Н. А. Серно-Соловьевичи, М. Л. Михайлов, А. А. Слепцов, Н. Н. Обручев, В. С. Курочкин и некоторые другие литераторы.
Чернышевский как руководитель видел цель организации в подготовке крестьянской революции. Для осуществления этой цели членам организации необходимо было разъехаться по стране для налаживания деятельности тайных кружков. Шелгунову выпало ехать в Сибирь. Многого в практическом плане сделать ему, однако, не удалось. По поручению Чернышевского в 1861 г. он, в частности, написал две прокламации, – «К молодому поколению» и «К солдатам».
Н. В. Шелгунов считал, что крестьянская реформа не разрешает проблемы освобождения крестьян. По его мнению, земля должна принадлежать не лицу, а стране. У каждой общины должен быть свой надел. Нельзя допускать личного землевладения, ибо оно неизбежно приведет к резкому расслоению крестьянства, что вызовет социальные волнения. Он считал также, что император, «помазанный маслом в Успенском соборе, должен быть заменен выборным старшиной» [По-мелов, Российская педагогика…, с. 217].
В 1862 г. член организации Всеволод Дмитриевич Костомаров выдал Чернышевского и его единомышленников. Судьба многих из них была трагична. Сам Чернышевский после гражданской (символической) казни был отправлен на долгие годы в ссылку в Восточную Сибирь.
Шелгунова продержали 20 месяцев в казематах Алексеевского равелина Петропавловской крепости, а потом выслали на поселение под надзор полиции в Вологодскую губернию. Почти 15 лет он жил в разных городах: сначала в Тотьме, Никольске, Кадникове и Вологде, с 1869 г. в Калуге, с 1873 г. в Выборге, с 1874 г. в Новгороде.
Лишь в возрасте 53-х лет получил разрешение поселиться в столице. В годы ссылки Н. В. Шелгунов много занимался литературной работой. Но характер его сочинений резко изменился. Теперь он свое внимание уделяет популяризации исторических, социально-политических, экономических, литературных и педагогических знаний. Активно сотрудничает с ведущими российскими журналами: «Современник» (с 1861 г.), «Русское слово» (с 1865 г.), «Дело» (с 1867 г.), а также с газетой «Неделя» (с 1872 г.). С 1880 г. он работает редактором журнала «Дело».
В 1884 г. его обвиняют в связях с опальным М. Л. Михайловым и снова бросают в Петропавловскую крепость, где он провел два года. Однако доказать обвинение следствию не удается, и его освобождают, правда, с запретом на редакторскую деятельность. Последние шесть лет жизни, – а умер он 12 (24) апреля 1891 г., – Н. В. Шелгунов сотрудничал в журнале «Русская мысль», где писал ежемесячно по фельетону в рубрике «Очерки русской жизни». Всего их было опубликовано 65, причем последний Шелгунов диктовал, будучи уже тяжелобольным [Помелов, Российские педагоги…, с. 114].
Передовые петербургские рабочие высоко ценили деятельность Н. В. Шелгунова. Незадолго до его смерти они посетили его и вручили ему адрес, полный благодарных слов к человеку, ставшему одним из вождей прогрессивной молодежи.
«Вы показали нам, как вести борьбу», – писали рабочие. Похороны Н. В. Шелгунова превратились, по словам В. И. Ленина (статья «Первые уроки»), в большую политическую демонстрацию. На могиле выделялся венок со словами «Умершему со знаменем в руках» [Поме-лов, Российские педагоги…, с. 114].
Обсуждение результатов. Н. В. Шелгунов вошел в российскую историю как революционер-демократ, общественно-политический деятель, автор многочисленных, в настоящее время, в основном, забытых, публицистических работ по проблемам экономики, философии, истории, литературы, а также педагогики. Творчество его было многогранно. Мы рассмотрим лишь ту его часть, которая связана с развитием Н. В. Шелгуновым педагогических идей.
Большинство работ Н. В. Шелгунова носили критический характер. Сам он не был педагогом-практиком, да и к теоретикам педагогики его тоже не отнесешь. Все-таки он был больше публицистом, и в своих работах глубоко вскрывал сущность современных ему педагогических проблем, которые глубоко изучал, будучи издателем периодического издания.
К наиболее важной из проблем он относил так называемую «классическую» реформу Д. А. Толстого, критиковал ее за бесплодность, односторонность и антидемократический характер [Помелов, Российская педагогика…, с. 219].
В статье в журнале «Дело» (1880, № 5) Шелгунов подводит «Итоги 14-летней деятельности Д. А. Толстого в Министерстве народного просвещения» (статья именно так и называется), и одновременно одним из первых дает обобщающий очерк развития образования в России.
В очерке содержится много интересных фактов, наблюдений и обобщений. Так, он отмечает, что при Петре Ι и Екатерине ΙΙ образование имело практический, реальный характер и отличалось большей свободой в смысле выбора средств и методов обучения. Для чтения воспитанникам Санкт-Петербургского народного училища, основанного при Екатерине, выписывались гамбургские и геттингенские газеты, московские и петербургские «Ведомости». В этом же училище издавались литературные опыты воспитанников. Однако при императоре Павле Ι (1796–1801) была введена строжайшая книжная цензура.
В своей речи (1799) «О состоянии наук в России под покровительством Павла Ι » профессор Московского университета Гейм указывал, что «познание и так называемое просвещение часто бывает употреблено во зло через обольстительные нынешних сирен напевы вольности и через обманчивые призраки мнимого счастья. Европейские правительства, спокойно взиравшие на сей разврат, возымели, наконец, правильную причину сожалеть о своем равнодушии. Сколько счастливою почитать себя должна Россия потому, что ученость в ней благоразумными ограничениями охраняется от губительной язвы возникающего всюду лжеучения» [Шелгунов, Итоги…, с. 320].
В годы царствования Павла Ι были закрыты все частные типографии, строго запрещены поездки за границу, наложен запрет на ввоз литературы, даже музыкальной. Едва вступив на престол в 1801 г., Александр Ι тотчас же отменил эти ограничения. В гимназиях господствовало реальное направление. «Жестокие» учителя должны были быть «узнаны» и «предостережены» [Шелгунов, Итоги…, с. 321].
В первоначальный период эпохи царствования Александра Ι на университет смотрели не как на воспитательное заведение, а как на
«ученую корпорацию для преподавания наук» [Шелгунов, Итоги…, с. 322]. Каждому профессору была предоставлена свобода преподавания, и даже деканы не имели права посещать лекции – это считалось унизительным. Тогдашний студент, писатель С. Т. Аксаков вспоминал: «В студентах царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому и глубокое уважение ко всему честному и высокому. Память таких годов неразлучно живет с человеком и неприметно для него освещает и направляет его в продолжение целой жизни, и куда бы его не затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, она выводит его на честную и прямую дорогу» [Поме-лов, Российские педагоги…, с. 116].
Первым краеугольным камнем политики министра народного просвещения Д. А. Толстого (1866– 1880) было мнение о том, что учителями народных школ должны быть выпускники духовных семинарий, вторым – стал классицизм.
С освобождением крестьянства от крепостного права появилась потребность подготовки значительного количества специалистов самого различного профиля. Время классицизма уходило в прошлое, это понимали все, в том числе и сам Д. А. Толстой, но, тем не менее, он продолжал свою прежнюю образовательную политику. «Реализм» противостоял не только «классицизму». Он противостоял, прежде всего, церкви и монархическим устоям, верноподданным слугой которых был министр просвещения [Помелов, Российская педагогика…, с. 224].
Н. В. Шелгунов приводит в своей статье ряд откликов столичных изданий в связи с отставкой Толстого: «Трудно припомнить, когда петербургское общество праздновало Христово воскресенье с более радостными и светлыми надеждами, как в этот раз» [Помелов, Российская педагогика…, с. 224].
Н. В. Шелгунов называет курьезом то, что в то время, как в Европе совершается решительный поворот общественного мнения в сторону гармонического сочетания гуманитарных и реальных знаний, когда невежеством считается как пренебрежение словесными науками со стороны реалистов, так и пренебрежение изучением законов природы со стороны словесников, мы выступаем в мир просвещения с филологической системой и, забросив свой родной язык и живые языки, тщательно долбим на память греческие и латинские лексиконы [Шелгунов, Итоги…, с. 340].
Н. В. Шелгунов видел определенную альтернативу министерским школам и церковно-приходским школам в открытии земских школ. В статье «По поводу земской школы» он отмечал, что земским школам приходилось терпеть нападки как со стороны прогрессивных кругов, считавших, что эти школы должны более энергично насаждать грамотность, так и со стороны реакционной печати, осуждавшей их за пренебрежение религиозным образованием и насыщение программы светским, естественнонаучным материалом [Шелгунов, По поводу…, с. 356].
Начиная с 1884 г., земской школе противопоставлялась церковно-приходская школа, получавшая значительные ассигнования от царского правительства, которое надеялось, что они потеснят земские школы. Последние находились на грани запрета. И именно в этот момент Шелгунов выступил со статьей в их защиту. Он показал ту пользу, которую в течение двух десятилетий вело земство в области просвещения народа.
Статья видного публициста на некоторое время приостановила поток критики в адрес земств. Всего несколько десятков лет тому назад крестьяне не требовали от школы ничего большего, как научить ребенка чтению часослова, – писал Шелгунов. – А сейчас крестьяне требуют чтения не только божественных, но и гражданских книг, умения складно написать письмо, произвести вычисления на счетах, т. е. практических знаний. В устаревшие «домашние» школы с учителем-дьячком или отставным солдатом крестьянин отдает детей в учебу лишь тогда, когда поблизости нет земской школы.
Глубокой симпатией к народному учителю проникнуты строчки статьи Шелгунова. С болью пишет он, что до сих пор на учителя смотрят как на вещь, которую всегда можно передвинуть и распорядиться им по своему усмотрению. Учитель должен жить в мире со священником, потому что тот всегда ему может навредить. В одних детях он и находит нравственную опору, с ними отдыхает душой. А ведь иные деятели предлагают сделать школу профессиональной. Это неплохо бы выглядело. Но вот поручить это все учителю невозможно. Позанимавшись с детьми в течение шести-семи часов, он нуждается в отдыхе; к тому же дома его снова ждут тетради и подготовка к следующему учебному дню [Шелгунов, По поводу…, с. 367].
Н. В. Шелгунов приводит в статье цитаты из различных газет, суть которых сводится к одному: «Образование народа приносит один только вред. Деревенские ребятишки в школах научаются безнравственности неверию в бога». Какой же предлагается выход скалозубами и собакевичами? Они толкуют о необходимости организации особых школ, в которых бы готовили расторопных лакеев и ловких горничных, новых подхалюзиных и молчали-ных.
В противовес этому «темному царству» Шелгунов противопоставляет имена «первоучителей», таких, как Ушинский, Водовозов, Пауль-сон, Максимович, Косинский, Корф, Блинов, Тихомиров и др., имена которых сохранятся навечно в истории народного образования России [По-мелов, Российские педагоги: XIX– XX…, с. 227].
Давая обзор деятельности этих замечательных педагогов, он далек от безоговорочных панегирик в их адрес. Так, он пишет, что книги И. И. Паульсона грешат нравоучениями и «натяжками добродетельных чувств» и потому не производят на детей «настоящего впечатления». В. И. Водовозов не всегда интересен и сух. Детские книги Л. Н. Толстого нравятся детям больше, но зато он не дает детям новых знаний и заботится только о развитии чувств и воображения. В смысле передачи полезных знаний преимущество он отдает В. И. Водовозову и К. Д. Ушинскому.
Особенно активно откликался Н. В. Шелгунов на педагогические идеи Л. Н. Толстого. По всей вероятности, он был наиболее серьезным педагогическим критиком «Азбуки» и «Книги для чтения» великого писателя. Шелгунова не смущал его высокий авторитет; он считал, что раз Лев Толстой – человек необыкновенный, то, следовательно, и относиться к нему следует строже и требовать большего. Отмечая стремление Толстого подняться над немецким методическим педантизмом, влиянию которого сильно поддавались тогдашние русские педагоги, Шелгунов в то же время назвал его «Новую Азбуку», ни больше ни меньше «старинным букварем, необыкновенно монотонным и однообразным, над которым заснет всякий ребенок». Главный недостаток он видит в отсутствии реального, практического содержания, в насыщенности его сказочностью, басенно-стью. Толстой, пишет Шелгунов, дает слова, а не понятия; он пишет о львах, обезьянах, орлах, а картинок этих животных нет, поэтому материал далек от понимания детьми [Помелов, Российская педагогика…, с. 227–228].
-
Н. В. Шелгунов подверг критике и «Руководство к русской азбуке» В. И. Водовозова. Он считал, что главная ошибка писателей-педагогов состоит в излишнем педантизме, при котором переход от из-
- вестного к неизвестному в их методических пособиях идет такими мелкими шажками, что лишает детей умственной самостоятельности; голова при этом становится «ненужной вещью». Автор, по мнению Н. В. Шелгунова, прививает детям привычки мышления, заставляя детей запоминать второстепенные детали, например, какой формы клюв у какой-нибудь птицы и т. п. Водовозов отвечал, что эти задания даются детям для умственной гимнастики, а содержание в данном случае не имеет существенного значения [По-мелов, Российская педагогика…, с. 228]. Однако Шелгунов не согласился с такой постановкой вопроса и заявил, что бесцельное упражнение ума, так же, как и тела, есть самый бесчеловечный вид каторги, который влечет за собой безнравственные и разрушительные последствия, поскольку притупляет человека и превращает его в идиота.
Отдавая должное острому, наблюдательному уму Н. В. Шелгунова, точности многих его высказываний и справедливости его мнений, следует иметь в виду, что в ряде случаев он, подобно другому видному критику того времени Д. И. Писареву, а также Л. Н. Толстому, полемически заострял высказывавшуюся мысль, порой доводя ее до абсурда.
Кроме того, его мнения по тому или иному вопросу не могут рассматриваться как безусловная истина. Важно помнить, что авторы вышеназванных учебных пособий были не только теоретиками педагогики, но и учителями-практиками, использовавшими непосредственно в работе с детьми свои собственные учебники. И в этом сильная сторона их дидактической позиции.
В то же время, следует отметить и то, что Н. В. Шелгунов видел коренную разницу между реакционерами от просвещения и замечательными педагогами, создававшими одними из первых свои, пусть и не всегда совершенные учебники. Его критика в их адрес всегда носила конструктивный, хотя порой и чересчур резкий характер.
В 1875 г. в журнале «Дело» (№ 4) была опубликована большая статья Н. В. Шелгунова «Педагогическая путаница». В ней он дает подробный критический анализ курса педагогики, составленный преподавателем теории изящной литературы и педагогики в Николаевском женском институте в Санкт-Петербурге Михаилом Борисовичем Чистяковым (1809–1885), автором-составителем таких книг, как «Повести и сказки для детей», «Исторические повести и рассказы», «Очерк теории изящной словесности» и др. Его курс педагогики обобщал опыт преподавания самого автора.
Н. В. Шелгунов критикует автора за идеализм, отрыв от природной и социальной среды. В свое время Ж.–Ж. Руссо, испугавшись сложности социальной среды, поместил своего Эмиля на «необитаемый остров», «лишил» его родителей, приставил к нему кучу гувернеров. Талант в изображении отдельно взятых педагогических воздействий, несомненный литературный талант французского утописта сочетались у него с наивностью, верой в возможность выведения на лоне природы «новой породы» людей. Однако жить в обществе и быть независимым от него невозможно. Наивность Руссо Европа давно ему простила, – пишет Н. В. Шелгунов, – ибо его теории открыли зрение слепым. Едва ли после Руссо следовало появляться на том же поприще М. Б. Чистякову [Шелгунов, Педагогическая…, с. 296].
«Современная педагогика вовсе не умозрительное отношение к чему-то вообще, отдельно стоящему и изолированному, это не наука необитаемого острова, а, напротив, наука густо населенной земли. Чтобы учить такой науке, нужно знать, прежде всего, и землю, и людей, знать силы и законы человеческой души» [Шелгунов, Педагогическая…, с. 304]. Но этого как раз и не показывает М. Б. Чистяков, отмечает Н. В. Шелгунов.
Более того, он высказывает резкое осуждение «отвлеченной педагогики», «педагогики вообще», оторванной от жизни общества, среды, культуры, природы. Далее он подвергает М. Б. Чистякова критике за то, что тот считает воспитанием изолированное физическое или умственное воспитание.
А ведь этого мало, считал Шелгунов. Задача воспитания состоит в том, чтобы направить ребенка, сделать его полноценным членом общества, выражаясь современным языком социализировать его, т. е. ввести в социальную среду, адаптировать к окружающей жизни, помочь сориентироваться в ней. Впрочем, Чистяков, как бы отрицая «направления в педагогике», в то же время стремится дать детям «особенное направление» [Помелов, Российская педагогика…, с. 230].
И Шелгунов это понимает. Другое дело, что идеал воспитания оба они видят совершенно по-разному, поскольку смотрят на эту проблему с различных социальных позиций.
Н. В. Шелгунов отзывался на всё то новое, передовое и интересное, что появлялось в педагогической литературе. Когда в 1884 и 1889 гг. вышли в свет два больших тома «Что читать народу?», составленные харьковскими учительницами под редакцией известной деятельницы по народному образованию Христины Даниловны Алчевской (1841– 1920), Шелгунов откликнулся на их выход большой доброжелательной статьей «Что читать народу. Издание харьковских учительниц» («Русская мысль», 1890).
Двухтомник представлял собой анализ большого числа литературных произведений, которым был дан критический анализ. Для Н. В. Шелгунова разговор о книгах был скорее поводом для разговора о роли интеллигенции в современном обществе. Ссылаясь на Рене Декарта, считавшего, что нет способности, распределенной более равномерно между людьми, нежели рассудок, он пишет, что интеллигенция отличается от народа не тем, что ее рассудок (ум) больше или сильнее, а только тем, что он имеет возможность работать над большим числом фактов, представляемых ему более развитой и разнообразной жизнью, и создавать поэтому большее количество понятий [Помелов, Российская педагогика…, с. 231].
Н. В. Шелгунов выступил автором большой работы «Письма о воспитании» (1873–1874). Она была оформлена как популярный курс «рационального» воспитания и предназначалась для использования матерями, и состоит из двадцати значительных по объему и содержанию статей. Причем сами названия мно- гих из них («Память», «Воображение», «Внимание», «Слово», «Воля», «Стыд», «Характер» и др.), дают основание считать, что их автора глубоко интересовали вопросы психологии.
В основание своей работы автор положил последние данные популярной тогда «опытной психологии», слывшей новым словом в науке и вводившей в психологию эмпирический метод вместо прежнего, догматического. Опытная психология ставила своей задачей изучение «душевных» явлений и использование их в педагогической практике. Скептики утверждали, что ею невозможно пользоваться в практической деятельности. Шелгунов возражал, указывая на то, что ведь нет и «законченной» медицины, однако, когда больной хворает, посылают за доктором – все-таки лучше пользоваться положениями «незаконченной» науки, чем своими личными, несовершенными знаниями и наблюдениями [Помелов, Российские педагоги…, с. 120].
С развитием психологии Н. В. Шелгунов связывал самые большие надежды для дела воспитания. Он полагал даже, что быстрота человеческого прогресса будет зависеть исключительно от того, насколько быстро пойдет развитие психологии, которая должна стать таким же обыденным знанием, как география и математика [Помелов, Российские педагоги…, с. 121].
В статье «Чего не знают женщины», входящей в этот цикл, автор задается вопросом, что же представляет собой «частный, женский опыт», на основе которого осуществляется домашнее воспитание.
По мнению Шелгунова, нельзя представить себе ничего более жалкого, ограниченного, стесняющего и затупляющего, как женское воспитание. «Какое ничтожество интересов, какая ограниченность кругозора, какая мелочность чувств и мыслей!», с горечью восклицает он [Шелгунов, Чего…, с. 55]. Для женщины, считал он, общественная жизнь – это когда она отправляется в гости, на концерт или в театр, на бал, на общественное гулянье. Это высший предел, до которого достигает женская мысль. И такая женщина становится женою и матерью… «О, матери, матери! Мы вас не проклинаем, но вас не за что и благословлять. Вы сами ничего не знаете, вы сами ни о чем не думали, вас никто никогда не учил этому, – ни сама жизнь, ни ваша собственная мать, а поэтому и вам самим нечего передать своим детям», с гневом пишет Н. В. Шелгунов [Шелгунов, Чего…, с. 55].
Ясно, что такие статьи публициста вызывали споры и обвинения в его адрес в излишней ригористичности, необъективности и недостаточном знании предмета исследования, т. е. «психологии женщины». Вероятно, в этой критике много правды, но не исключено и то, что Н. В. Шелгунов сознательно заострял сущность характеризуемой им темы, с тем, чтобы как можно больше привлечь потенциальных читателей к обсуждению своей статьи.
Заключение. Подспудно у Н. В. Шелгунова постоянно проходит мысль о том, что правильная организация воспитания детей, – и не только их, – невозможна без изменения социальных условий, непосредственно влияющих на формирование человеческих характеров.
Кое в чем дальнейшее развитие науки поправило отдельные положения и выводы Н. В. Шелгунова. Но, в целом, он остался в истории отечественной общественной мысли и педагогики как один из виднейших ее представителей, поддерживавший демократическое направление в науке, прежде всего, в застойный период правительственной реакции 1870–1880-х гг.
Дальнейшее изучение педагогического наследия видного российского мыслителя Н. В. Шелгунова может служить важным ресурсом для углубления представлений отечественных историков образования об особенностях осуществления процесса развития просвещения в России во второй половине XIX в.
Список литературы Видный российский общественный деятель и педагогический публицист Н. В. Шелгунов. К 200-летию со дня рождения
- Помелов, В. Б. Жизнь К. Д. Ушинского: монография / В. Б. Помелов. – Киров: Изд-во ВятГУ. – 2023. – 215 с. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В.Б. Педагогические идеи видного российского общественного деятеля Н. В. Шелгунова / В. Б. Помелов. – Текст: непосредственный // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2019. – № 1. – С. 11–16.
- Помелов, В. Б. Российская педагогика в лицах: монография / В. Б. Помелов. – Саарбрюккен: Изд-во «Lap Lambert Publishing». – 2013. – 608 с. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Российская прогрессивная педагогика второй половины XIX в.: монография / В. Б. Помелов. – Киров: Изд-во ВятГУ. – 2020. – 260 с. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В.Б. Российские педагоги второй половины XIX-XX вв.: учебное пособие / В. Б. Помелов. – Киров: Изд-во ВятГПУ. – 2000. – 220 с. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Российские педагоги: XIX-XX вв.: учебное пособие / Серия «Поиски утраченного». Т. I. (Электронный оптический диск) / В. Б. Помелов. – Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС». – 2012. – 406 с. – Текст: непосредственный.
- Струминский, В. Я. Н. В. Шелгунов – революционер-демократ и педагог-публицист 2-й половины XIX в. / В. Я. Струминский // Шелгунов Н. В. Избранные педагогические сочинения / Под ред. Н. К. Гончарова. – Москва: Изд-во «Учпедгиз». – 1954. – С. 5–32. – Текст: непосредственный.
- Шелгунов Н. В. Итоги 14-летней деятельности Д. А. Толстого в Министерстве народного просвещения / Н. В. Шелгунов. – Текст: непосредственный // Н. В. Шелгунов. Избранные педагогические сочинения / Под ред. Н. К. Гончарова. – Москва: Изд-во «Учпедгиз». – 1954. – С. 318–341.
- Шелгунов Н. В. Педагогическая путаница / Н. В. Шелгунов. – Текст: непосредственный // Н. В. Шелгунов. Избранные педагогические сочинения / под ред. Н. К. Гончарова. – Москва: Изд-во «Учпедгиз». – 1954. – С. 289–317. – Текст: непосредственный.
- Шелгунов, Н. В. По поводу земской школы // Н. В. Шелгунов. Избранные педагогические сочинения / Под ред. Н. К. Гончарова. Москва: Изд-во «Учпедгиз». – 1954. – С. 341–369. – Текст: непосредственный.
- Шелгунов, Н. В. Чего не знают женщины / Н. В. Шелгунов. – Текст: непосредственный // Н. В. Шелгунов. Избранные педагогические сочинения / Под ред. Н. К. Гончарова. – Москва: Изд-во «Учпедгиз». – 1954. – С. 53–68. – Текст: непосредственный.