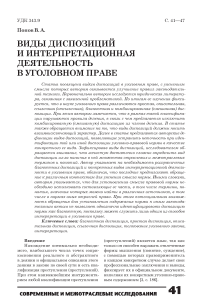Виды диспозиций и интерпретационная деятельность в уголовном праве
Автор: Попов В.А.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Современные и межотраслевые исследования
Статья в выпуске: 3 (25), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена видам диспозиций в уголовном праве, с уяснением смысла которых автором связывается улучшение правил законодательной техники. Первоначально автором исследуется юридическая литература, связанная с заявленной проблематикой. По итогам ее изучения фиксируется, что в науке уголовного права различаются простая, описательная, ссылочная (отсылочная), бланкетная и комбинированная (смешанная) диспозиции. При этом автором замечается, что в рамках такой классификации нарушаются правила деления, в связи с чем предлагается исключить комбинированную (смешанную) диспозицию из членов деления. В статье также обращается внимание на то, что виды диспозиций должны носить взаимоисключающий характер. Далее в статье предлагаются авторские дефиниции видов диспозиций, позволяющие устранить неточность при идентификации той или иной диспозиции уголовно-правовой нормы в качестве конкретного ее вида. Зафиксировав виды диспозиций, исследователем обращается внимание, что зачастую достаточно сложно определить вид диспозиции из-за наличия в ней множества отраслевых и межотраслевых терминов и понятий. Автор указывает на необходимость разграничения бланкетных диспозиций и конкретных видов интерпретационной деятельности в уголовном праве, обозначая, что последние предполагают обращение к различным контекстам для уяснения смысла нормы. Иными словами, автором указывается, что для установления смысла правовой нормы необходимо истолковать составляющие ее части, в том числе термины, понятия, значения которых можно найти в различных источниках, в том числе в нормах иных отраслей права. При этом потенциальная возможность обращения для установления содержания нормы к иным законодательным актам не позволяет однозначно идентифицировать диспозицию нормы как бланкетную, поскольку может служить лишь одним из способов интерпретации в уголовном праве.
Бланкетная диспозиция, простая диспозиция, описательная диспозиция, ссылочная диспозиция, толкование уголовного закона, интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/14118739
IDR: 14118739 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Виды диспозиций и интерпретационная деятельность в уголовном праве
Нахождение оптимально необходимого, наибольшего числа точек соприкосновения реального и абстрактного в деянии и официальном описании этого деяния в законе по своей сути и есть квалификация преступления (преступлений). При этом наиважнейшим инструментарием любой квалификации преступления
(преступлений) является язык, так как только он способен выражать отвлеченные формы мышления (понятие, суждение), с помощью которых правоприменитель в каждом конкретном случае делает свои профессиональные заключения и выводы, фиксирует их в официальном документе, наполняя их конкретным уголовно-правовым содержанием [3, с. 186].
Вместе с тем, отсутствие четкости в обозначении обстоятельств, влияющих на квалификацию преступления, расплывчатость формулировок при их описании в законе, криминологическая несостоятельность включения их в состав преступления, широкое использование оценочных понятий без конкретизации их содержания в уголовном законе и тому подобное на облегчают работу правоприменителя [4, с. 19], а напротив создают дополнительные трудности.
Конструирование же норм уголовно права, посредством которых происходит установление уголовной ответственности за то или иное преступление, в соответствии с выработанными правилами законодательной техники является одним из способов предупреждения неоднозначного и двусмысленного толкования уголовного закона.
Описание исследования
Не углубляясь в дискуссию о строении уголовно-правовой нормы (в части наличие в ней таких структурных элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция), думается, при создании любой уголовно-правовой нормы в первую очередь необходимо определиться с видом диспозиции, посредством которой предполагается криминализировать то или иное деяние, поскольку именно от наполнения ее тем или иным содержанием и будет зависеть в последующем практика применения данной нормы.
В уголовном праве под диспозицией понимается та часть нормы, которая описывает признаки преступления, содержит признаки тех деяний, за которые и устанавливается уголовная ответственность. Иными словами, диспозиция — это часть статьи Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ), указывающая на опасные для личности, общества или государства деяния, которые признаются преступлениями и за совершение которых устанавливается наказание [5, с. 71—72].
Традиционно виды диспозиций рассматриваются в рамках учебной дисциплины уголовного права в теме «Уголовный закон». В науке же уголовного права вопросы структуры уголовного закона и, в частности, виды диспозиций исследуются не так часто. Считая данный вопрос достаточно проработанным, исследователи, как пра-вило,обращаются к изучению конкретных составов преступлений, обозначая при этом вид диспозиции, в котором описывается исследуемый состав преступления, и затем переходят к раскрытию содержащихся в диспозиции статьи признаков состава преступления. Вместе с тем, те аккумулированные знания о видах диспозиций, что имеются, не всегда позволяют однозначно отнести ту или иную диспозицию уголовно-правовой нормы к конкретной ее разновидности, учитывая опять же, что разные авторы предлагают различное число членов деления в классификации диспозиций.
Так, во многих учебниках по уголовному праву можно встретить следующую классификацию диспозиций: простая диспозиция, описательная диспозиция, ссылочная (отсылочная)диспозиция, бланкетная диспозиция.
Простая диспозиция только называет преступление, не раскрывая его признаков, иными словами она содержит наименование преступления, но не определяет его признаков [1, с. 21]. В качестве примера такой диспозиции можно привести часть 1 статьи 126 УК РФ.
Описательная диспозиция не только называет преступление определенным термином, но и раскрывает его содержание, то есть содержит определение признаков преступления [1, с. 21]. Например, часть 1 статьи 158 УК РФ.
Ссылочная (отсылочная) диспозиция в целях экономии текста закона содержит ссылку к другим статьям Уголовного кодекса РФ. При этом такая ссылка необходима, чтобы установить признаки преступления, о котором указывается в такой ссылочной (отсылочной) диспозиции [1, с. 21]. Так, например, согласно части 1 статьи 117 УК РФ «причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, образует состав истязаний». Однако для уяснения признаков данного преступления необходимо обратиться к статьям 111 и 112 УК РФ.
И, наконец, бланкетная диспозиция содержит ссылку на нормы иных отраслей права. При этом такая ссылка опять же необходима для установления признаков преступления, о котором указывается в такой бланкетной диспозиции [1, с. 21]. Например, согласно части 1 статьи 143 УК РФ «преступлением считается нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Однако для уяснения признаков данного преступления необходимо обратиться к трудовому законодательству с целью установления фактов нарушения соответствующих требований охраны труда.
Некоторые авторы также указывают, что законодатель иногда формулирует и смешанные или комбинированные диспозиции, в которых имеются признаки, например, и бланкетной, и ссылочной и какой-либо иной диспозиции. Так, часть 1 статьи 108 УК РФ предусматривает ответственность за убийство (простая диспозиция) при превышении пределов необходимой обороны (ссылочная диспозиция), поскольку определение признаков превышения пределов необходимой обороны дается в части 2 статьи 37 УК РФ [1, с. 21].
Вместе с тем, полагаем выделять смешанные (комбинированные) диспозиции не совсем корректно, так как в таком случае почти каждая диспозиция превращается в смешанную ввиду наличия в ней признаков нескольких видов диспозиций. В результате, деление на иные виды диспозиции, помимо комбинированной, становится нецелесообразным. Более того, учитывая, что классификация представляет собой логическую операцию деления необходимо проверять в процессе деления понятия соблюдение четырех основных правил, которые обеспечивают четкость и полноту деления: соразмерность деления, непрерывность деления, единство основания, члены деления должны исключать друг друга [2, с. 56—57].
Полагаем, что все диспозиции уголовно-правовых норм необходимо разделить на четыре взаимоисключающих вида: простая, описательная, бланкетная и ссылочная (отсылочная). При этом отнесение диспозиции к одному виду должно исключать ее возможность быть отнесенной к другому ее виду. Таким образом, в зависимости от способа описания признаков преступления в уголовном законе предлагается выделить следующие диспозиции.
Простая диспозиция — структурный элемент уголовно-правовой нормы, в котором указывается наименование преступного деяния без указания его признаков и при отсутствии ссылок на иные нормы права (как уголовного, так и иных отраслей).
Описательная диспозиция — структурный элемент уголовно-правовой нормы, в котором указывается наименование преступного деяния с раскрытием его признаков (раскрывается содержание преступления)при отсутствии ссылок на иные нормы права (как уголовного, так и иных отраслей).
Ссылочная (отсылочная) диспозиция — структурный элемент уголовно-правовой нормы, в котором указывается преступное деяние и содержится ссылка на иную уголовно-правовую норму, содержащуюся в Уголовном кодексе РФ, независимо от наличия описания признаков преступного деяния, но при отсутствии ссылок на нормы права иных отраслей права.
Бланкетная диспозиция — структурный элемент уголовно-правовой нормы, в котором указывается преступное деяние и содержится ссылка на нормы права иных отраслей права, независимо от наличия описания признаков преступного деяния и ссылок на иные уголовно-правовые нормы, содержащиеся в Уголовном кодексе РФ.
Такая строгая классификация диспозиций с учетом авторских корректировок содержания конкретных видов диспозиций позволит более точно определиться с предполагаемым результатом при конструировании уголовно-правовой нормы.
Однако, сказанным не исчерпывается вопрос видов диспозиций. Несмотря на строгость и внешнюю однозначность такой классификации, где члены деления взаимоисключают друг друга, существует сложность при определении вида диспозиции в связи со следующим.
Так, например, в диспозиции части 1 статьи 158 УК РФ зафиксировано «кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Анализируя указанную диспозицию, можно отнести ее к числу описательных диспозиций, поскольку в ней обозначается наименование преступления, а затем описываются его признаки. Вместе с тем важно заметить, что понятие имущества в уголовном законодательстве РФ не раскрывается. Вывести данное понятие можно из текста ст. 128 Гражданского кодекса РФ; также дефиниция термина «имущество» указано в п. 13.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Более того, в примечании первом к статье 158 УК РФ раскрывается понятие хищения: «под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». Важно также обратить внимание, что термины «собственник» и «иной владелец» не раскрываются уголовным законодательством. Для установления содержания указанных понятий необходимо обратиться к положениям гражданского законодательства РФ. Возникает закономерный вопрос — является ли диспозиция ч. 1 ст. 158 УК РФ описательной или бланкетной?
Необходимо отметить, что право в целом как системное образование позволяет законодателю использовать «сквозные» термины и понятия, то есть одна отрасль права оперирует понятиями другой правовой отрасли, при этом не утрачивая своей специфичности [7, с. 110].
Думается необходимо разграничивать между собой бланкетную диспозицию и когнитивные техники толкования вербальных текстов, в том числе уголовного закона, учитывая кризис уголовно-правового языка [6, с. 10—14].
Уголовной закон в своей сущности представляет правовой текст, то есть вербально (словесно) выраженное содержание [8, с. 116]. Следовательно, как и любой текст, в том числе правовой, он подвержен соответствующим интерпретационным практикам. Для установления смысла той или иной уголовно-правовой нормы необходимо ее истолковать, т. е. выявить смысл текста, значение каждого его слова и выражения. Существуют различные методы интерпретации текста, однако все они в качестве основной интерпретирующей базы оперируют понятием контекста.
Контекст — смысловая база выявления синтагматических значений содержащихся в тексте слов и выражений. В качестве контекста интерпретатор может избрать не только некоторую вербальную макро- или микротекстовую целостность, но и сконструированные им идеальные модели фрагментов реальности [8, с. 118].
Соответственно, при обращении к какой бы то ни было уголовно-правовой норме автоматически начинается включаться процесс интерпретации данной нормы, при этом в качестве базы интерпретации (то есть в качестве контекста) могут быть избраны как словарные значения слов и выражений, правовые реалии, так и конкретные законодательные акты иных отраслей права. При этом, при избрании последнего, полагаем, диспозиция уголовно-правовой нормы не становится бланкетной, так как ее содержание не содержит отсылок к другим отраслям права. Обращение к иным отраслям права в рассматриваемом случае необходимо исключительно для проведения процедуры толкования нормы, а не для установления признаков преступления. Признаки же преступления зафиксированы полностью в норме уголовного закона. Выбор же контекста напрямую зависит от интерпретатора — иной текст, правовые реалии, факты объективной действительности или иное. Следовательно, норма, установление смысла которой возможно без обращения к иным отраслям права, не может рассматриваться как бланкетная. Бланкетные диспозиции изначально создаются законодателем с необходимостью обратиться к иным источникам права для установления всех признаков преступления, а не с целью интерпретации нормы.
Заключение
Таким образом, важно резюмировать, что выбор вида диспозиции при конструировании уголовно-правовой нормы позволит максимально полно описать необходимые признаки преступления и предупредить возможность неоднозначного и двусмысленного толкования уголовного закона. Потенциальная же возможность обращения для установления содержания нормы к иным законодательным актам не позволяет однозначно идентифицировать диспозицию нормы как бланкетную, поскольку может служить лишь одним из способов толкования в рамках интерпретационной деятельности в праве.
Список литературы Виды диспозиций и интерпретационная деятельность в уголовном праве
- Васильев, А. М. Уголовное право. Общая часть (курс лекций): учебное пособие / А. М. Васильев, Н. А. Васильева. - Армавир: РИО АГПА, 2012. - 212 с.
- Кириллов, В. И. Логика: учебник для юридических вузов / В. И. Кириллов, А. А. Старченко; под ред. проф. В. И. Кириллова. - изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 240 с.
- Козаченко, И. Я. Квалификация преступления как форма социального осознания реального и абстрактного, заключенного в языке уголовного закона / И. Я. Козаченко, Е. Б. Козаченко // Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2012. - № 2 (31). - С. 184-187.
- Козаченко, И. Я. Преступления с квалифицированными составами и их уголовно-правовая оценка: текст лекций / И. Я. Козаченко, Т. А. Костарева, Л. Л. Кругликов. - Екатеринбург: Издательство Уральской государственной юридической академии, 1994. - 59 с.
- Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть: учебник / И. Я. Козаченко; отв. ред. И. Я. Козаченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2008. - 720 с.
- Козаченко, И. Я. Уголовный закон в лабиринте словесных моделей / И. Я. Козаченко // Российское право: образование, практика, наука. - 2015. - № 6 (90). - С. 10-14.
- Козаченко, И. Я. Язык - душа и совесть уголовного закона / И. Я. Козаченко // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2003. - № 2 (247). - С. 109-116.
- Малинова, И. П. Философия права и юридическая герменевтика: монография / И. П. Малинова. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург: Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2017. - 199 с.