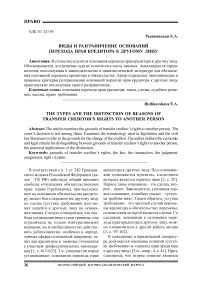Виды и разграничение оснований перехода прав кредитора к другому лицу
Автор: Рыжковская Е.А.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются основания перехода прав кредитора к другому лицу. Обосновывается, что решение суда не относится к числу таковых. Анализируется терминология, используемая в законодательстве и цивилистической литературе для обозначения оснований перемены кредитора в обязательстве. Автор определяет экономические и правовые критерии разграничения оснований перехода прав кредитора к другому лицу, практические последствия такого разграничения.
Основания перехода прав кредитора, закон, сделка, судебное решение, цессия, право требования
Короткий адрес: https://sciup.org/14214741
IDR: 14214741 | УДК: 347.447.95
Текст научной статьи Виды и разграничение оснований перехода прав кредитора к другому лицу
В соответствии с п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) действует общий принцип свободы отчуждения обязательственных прав: право (требование), при-надлежа-щее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Следует оговориться, что свобода соглашения имеет свои границы: она ограничена не только императивными нормами, но и необходимостью действовать добросовестно, особенно в определенных сферах отношений, например, таких как кредитные и заемные отношения с участием профессиональных заимодавцев [1, с. 615-623]. Т.е. упомянутая норма устанавливает основания перехода прав кредитора к другому лицу. Под основаниями понимаются причины, следствием которых является переход прав [2, с. 20]. Первое такое основание – это сделка, второе – закон. Законодатель, упоминая первое основание, в скобках указал – «уступка требова-ния». Таким образом, уступка требования – это частный случай перемены кредитора в обязательстве; перемены, основа-нием которой является сделка. Со сделками, лежащими в основании перехода прав кредитора к другому лицу, можно ознакомиться в другой работе автора [3, с. 97-102].
К сожалению, в юридической литературе допускается смешение понятий «уступка требования» и «переход прав кредитора к другому лицу» [См., напр.: 4, с. 41]. Представляется, что второе понятие является более широким по объему, а об уступке требования можно говорить только тогда, когда основанием перехода прав кредитора является сделка (уступить – т.е. проявить волю, совершить действие). Ряд авторов для обозначения перехода прав кредитора по обоим основаниям (сделке и закону) использует термин «цессия» [См., в частности: 5, с. 464, 465]. Действительно, «в римском частном праве использовались термины cessio voluntaria и cession legis. В первом случае речь шла о переходе права по воле кре-дитора, во втором – в силу закона, независимо от воли кредитора. Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации исполь-зует термин «уступка требования» только в отношении сделок, направленных на передачу обязательственного права. Переход права в силу закона не рассматривается как «уступка», хотя и приводит к аналогич-ным результатам, т.е. к перемене лица в обязательстве. Из-за этого в настоящее время использование понятия цессии (уступки права) для определения самого перехода права, независимо от того, производится он по воле кредитора или нет, может привести к смешению случаев пе--рехода права в результате особой сделки и в результате иных юридиче-ских фактов, предусмотренных законом». Эти справедливые рассуждения приводят Л.А. Новоселову к предложению в каждом случае указывать, какой смысл вкладывается в поня--тия «цессия» или «уступка права требования» [6, с. 9-10]. С этой позицией необходимо согласиться. Представляется неверным смешивать понятия с разным правовым содержанием.
Е.А. Крашенинников выделяет не два, а три основания для перехода принадлежащего кредитору права требования к другому лицу: сделка (договор уступки), закон и решение суда. В обоснование выделения двух последних оснований указанный автор приводит следующие аргументы: 1) в первом случае юридико-фактической предпосылкой перехода требования выступает преобразовательное решение суда, во втором – указанное в законе обстоятельство, которое чаще всего заключается в исполнении соответствующего обязательства поручителем (п. 1 ст. 365 ГК РФ), залогодателем (абз. 4 ст. 387 ГК РФ) и т.д.; 2) в первом случае требование считается перешедшим с момента вступления решения в законную силу, во втором – с момента наступления указанного в законе обстоятельства; 3) в первом случае переход требования опосредствуется осуществлением преобразовательного притязания, а во втором – нет [7, с. 3, 5-6]. Однако если квалифицировать вступление в законную силу решения суда о переводе прав кредитора на другое лицо как наступление указанного в законе обстоятельства, то приведенная аргументация теряет свой смысл. А, как представляется, это единственно возможная квалификация с точки зрения смысла и толкования ст. 387 ГК РФ. Кроме того, сама возможность судебного перевода прав кредитора должна быть предусмотрена нормой закона.
Таким образом, правильнее все же говорить о наличии только двух оснований для перехода прав кредитора к другому лицу, прямо указанных в ст. 382 ГК РФ – сделки и закона.
Итак, в качестве одного из оснований перехода прав кредитора к другому лицу закон называет сделку (уступку требования). Не обсуждая в настоящей статье правовую природу такой сделки, необходимо остановиться на анализе терминов, встречающихся в законодательстве и цивилисти-ческой литературе и обозначающих это явление. К такому исследованию побуждает употребление различных словосочетаний (названий) разными авторами, хотя целесообразным представляется разумное единство в юридической терминологии.
Современный ГК РФ употребляет для обозначения такой сделки термин «уступка требования» (п. 1 ст. 382, п. 1 и 3 ст. 388, ст. 389 и др.), а также (как равнозначный) – «цессия» (п. 4 ст. 143, п. 4 ст. 146), от лат. сessio, заимствованный из римского права. Встречаются в законе и вариации: «уступ- ка права требования» (например, п. 2 ст. 354 ГК), а также «уступка права (требования)» (п. 3 и 4 ст. 358.2 ГК и др.), либо просто «уступка» (п. 4 ст. 382) или «уступка прав» (п. 2 ст. 358.2). Именно этими терминами как синонимичными пользуются большинство современных ученых. Встретился автору и термин «перевод прав» в значении «передача прав от комиссионера к комитенту по п. 2 ст. 993 ГК РФ» (которая совершается с соблюдением правил об уступке требования) [8, с. 665].
Кроме того, довольно часто в литературе и судебной практике используется термин «переуступка» («переуступить» и др. его варианты), причем как в значении обычной, «первоначальной» уступки требования [9, с. 97], так и в значении «последующей», дальнейшей уступки (т.е. уступки цессионарием требования, ранее приобретенного им по сделке) [10, с. 26], как аналога так называемой «перепродажи» в сфере купли-продажи вещей.
Небезынтересно, что в свое время Д.И. Мейер считал целесообразным употребление в русском языке термина «уступка права», а термин «цессия права» ассоциировал с западной терминологией [11, с. 451]. И.Б. Новицкий также по понятным причинам подчеркивал неизвестность советскому праву и необходимость искоренения чуждого ему латинского термина «цессия» [12, с. 220]. В.В. Почуйкин сегодня справедливо отмечает равнозначность понятий «цессия», «уступка права требования» и «уступка требования» [13, с. 22].
В современном ГК РФ такие понятия, как «цессия», «цедент», «цессионарий» (вместо «первоначальный» и «новый кредитор») теперь употребляются свободно и уже привычно.
Термин «уступка требования» закреплен в действующем законодательстве как базо- вый для обозначения соответствующего правового явления в главе 24 ГК РФ. Разумеется, что с учетом отождествления в основном гражданском законе понятий «уступка требования» и «цессия», исторического происхождения термина «цессия», обозначающего в т.ч. переход прав кредитора к другому лицу по воле субъектов, а также «узаконивания» соответствующих наименований сторон договора цессии («цедента» и «цессионария») вполне оправдано широкое употребление термина «цессия» как синонимичного «уступке требования», а также наименований «цедент», «цессионарий» и глагола «цедировать», равнозначного термину «уступать» (и иных производных от «цессия» слов).
Допустимость использования словосочетания «уступка права требования» («уступка права (требования)») и в законодательстве, и в цивилистической литературе обосновывается следующим. П. 1 ст. 382 ГК РФ гласит: «Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования)…». Представляется, что слово «требование», заключенное законодателем в скобки и следующее за словом «право», употреблено в контексте данной нормы в целях уточнения, что речь идет о передаче не любого имущественного, а именно обязательственного права кредитора, которое в обязательстве традиционно именуется «правом требования» кредитора, чтобы ввести в дальнейшем сокращенный термин для обозначения субъективного права кредитора в обяза-тельстве1. [См.: 14, с. 71]. Это подтверждается более частым употреблением в дальнейшем законодателем в той же главе 24 ГК РФ, и в других главах именно сокращенного «требование», а не словосочетания «право (требование)», или «право требования», или «право кредитора», хотя эти термины тоже встречаются в законе [13, с. 22]. Кроме того, чаще законодатель использует термин «уступка требования», а не «уступка права требования». Это целесообразно и с точки зрения юридической техники, в целях экономии нормативного материала. Хотя с доктринальной точки зрения в данном случае речь идет о субъективном гражданском праве как совокупности правомочий и его объекте – требовании к должнику (передать деньги, товар, выполнить работу и т.п.).
Думается, что использование термина «уступка права» целесообразно лишь в том контексте, из которого ясно вытекает, что речь идет об уступке именно обязательственного права кредитора, т.к. законодательство содержит, например, институт уступки не только обязательственных, но и исключительных прав.
Употребление термина «переуступка требования» и производных от него представляется оправданным только в значении «последующей» уступки, как она определена выше (уступка цессионарием требования, ранее приобретенного им по сделке). Во-первых, это целесообразно в целях отграничения обладающей в ряде случаев специфическим правовым режимом последующей уступки (см., в частности, ст. 829 ГК РФ) от первоначальной, для обозначения которой закон определил устойчивый термин «уступка требования», не нуждающийся в «подправлении» и не терпящий искажений. Во-вторых, это может быть необходимо для краткости изложения.
Словосочетание «перевод прав» допустимо использовать лишь для обозначения принудительного, судебного перевода прав на лицо, т.е. в контексте другого основания для перехода прав кредитора другому лицу – закона (подп. 2 п. 1 ст. 387 ГК РФ).
Отечественный Гражданский кодекс впервые содержит общие правила о переходе прав кредитора к другому лицу, происходящем на основании закона. Действительно, ст. 387 ГК РФ перечисляет случаи такого перехода. Это происходит в результате универсального правопреемства в правах кредитора; по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом; вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому обязательству залогодателем; при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая; в других случаях, предусмотренных законом. Таким образом, перечень этих случаев носит открытый характер.
Необходимо подчеркнуть, что глава 24 ГК РФ теперь содержит общие положения (ст. 382-386), применимые к обоим основаниям перемены кредитора в обязательстве: сделке и закону. Есть отдельный раздел, посвященный переходу прав кредитора на основании закона, когда нет цессии (раздел 2 главы 24 «Переход прав на основании закона»). Необходимо понимать, что существуют и специальные нормы о перемене кредитора на основании закона, например, нормы о наследовании, в частности, привязывающие момент перехода прав к моменту открытия наследства. В случаях, когда такие специальные нормы отсутствуют, применяются общие положения о замене стороны в обязательстве, а также если иное не установлено ГК РФ, другими законами или не вытекает из существа отношений, – правила об уступке требования (п. 2 ст. 387 ГК РФ).
Существование такого юридического явления, как переход прав кредитора к другому лицу на основании закона, обусловлено определенными экономическими отношениями и интересами. Представляется, что они иного рода, чем общественные отношения, порождающие необходимость правового регулирования института уступки требования. Именно развитие цивилизованных рыночных отношений диктует настоятельную необходимость оборота имущественных прав, получивших в современном обществе ценность не меньшую, чем вещи.
Правовая регламентация передачи обязательственных прав по сделке означает поощрение законодателем свободы субъектов гражданского оборота в распоряжении своими правами в своем интересе по собственному усмотрению. Правовое регулирование перехода прав на основании закона порождается необходимостью известного упорядочения экономических отношений с целью защиты прав и интересов разных лиц при наступлении определенных событий, недопущения неблагоприятных или вредных для общества последствий. Например, в целях защиты прав кредиторов при реорганизации юридического лица; родственников и иных наследников в случае смерти гражданина; поручителя, залогодателя в случае исполнения ими обязательства перед кредитором; недопущения превращения страхования в источник неосновательного обогащения. По убедительному мнению М.И. Брагинского, суброгация не позволяет страхователю при гибели застрахованного имущества возместить убытки дважды – с виновника страхового случая и страховщика, и в то же время представляет собой оптимальный способ разрешения возникшей проблемы [15, с. 150-151].
При наличии двух оснований для перехода прав кредитора возникает вопрос о критериях их разграничения. В.А. Белов, в частности, полагает, что переход права к другому лицу на основании закона базируется не на одном юридическом факте (как уступка требования), и не на двух (как перевод долга), а на сложном юридическом составе, одним из фактов которого обязательно является предписание закона [16, с. 199]. Позиция В.А. Белова представляется не совсем точной, т.к. предписание закона не является юридическим фактом. В частности, О.А. Красавчиков определяет юридический факт как «… факт реальной действительности, с которым н о р м ы п р а в а связывают юридические последствия…» [17, с. 28].
О.Г. Ломидзе считает, что при переходе права на основании закона не требуется совершения праводателем и правоприобрета-телем активных действий по отчуждению права, т.е. сделки уступки права, но требуется наличие иных юридических фактов и юридических составов, с наступлением которых закон связывает отчуждение обязательственных прав. Практическое последствие указанного различия О.Г. Ломидзе видит в следующем: переход обязательственного права на основании закона, в отличие от его уступки, допускается независимо от условий договора. Стороны обязательства своим соглашением не могут ни исключить такой переход, ни поставить возможность его осуществления в зависимость от согласия должника [18]. Действительно, критерий разграничения двух оснований для перехода прав кредитора, предлагаемый О.Г. Ломидзе, представляется верным. Таковым является отсутствие у перехода прав в силу закона волевого характера, свойственного цессии в силу ее сделочной природы. Но вывод о практических последствиях такого разграничения спорен. Ведь на переход прав на основании закона в действительности может повлиять как соглашение сторон (к примеру, условие договора имущественного страхования об исключении суброгации – п. 1 ст. 965 ГК РФ), так и односторонняя сделка (завещание наследодателя, содержание которого может фактически исключить переход прав к определенным наследникам по закону; отказ наследника от наследства).
Список литературы Виды и разграничение оснований перехода прав кредитора к другому лицу
- Жевняк О.В. Социальные аспекты правового регулирования кредитных и заемных отношений//Российские регионы в фокусе перемен: Сборник докладов X Международной конференции. 12-14 ноября 2015 года; ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2016. 1164 с
- Вошатко А.В. О сущности уступки требования//Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр./Под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 7. Ярославль, 2000. 103 с.
- Рыжковская Е.А. Сделки, лежащие в основании перехода прав кредитора и обязанностей должника к другому лицу//Российский юридический журнал. 2005. №3. С. 97-104.
- Комиссарова Е.Г. Уступка права требования в институте гражданско-правовой ответственности//Журнал российского права. 2000. №8. С. 40-49.
- Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 2002. 682 с. (Автор гл. V -М.И. Брагинский.)
- Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М.: Статут, 2003. 494 с.
- Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования//Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр./Под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 6. Ярославль, 1999. 120 с.
- Гражданское право: Учебник: в 3 т. Том 2/Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ООО «ТК Велби», 2003. 848 с. (Автор гл. 43 -М.В. Кротов.)
- Тимошенко А.С. Переход прав кредитора к другому лицу//Арбитражная практика. Специальный выпуск «Уступка права требования (практика рассмотрения дел в арбитражных судах)». 2001. С. 97-99.
- Степаненко Е. Договор финансирования под уступку денежного требования//Хозяйство и право. 2003. №10. С. 23-32.
- Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). М.: Статут, 2000. 831 с.
- Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. 416 с. (Автор главы IV -И.Б. Новицкий.)
- Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы применения в современном гражданском праве России. М.: Статут, 2005. 203 с.
- Чеговадзе Л. К вопросу о механизме перехода права (требования)//Хозяйство и право. 2002. №6. С. 70-73.
- Брагинский М.И. Договор страхования. М.: Статут», 2000. 172 с.
- Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 265 с.
- Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958.182 с.
- Ломидзе О.Г. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона//Российская юстиция. 1998. №12. С. 13.