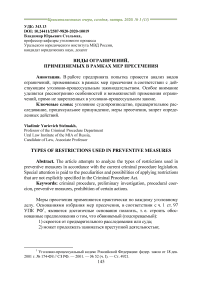Виды ограничений, применяемых в рамках мер пресечения
Автор: Стельмах Юрьевич Стельмах
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 1 (13), 2020 года.
Бесплатный доступ
В работе предпринята попытка провести анализ видов ограничений, применяемых в рамках мер пресечения в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Особое внимание уделяется рассмотрению особенностей и возможностей применения ограничений, прямо не закрепленных в уголовно-процессуальном законе.
Уголовное судопроизводство, предварительное расследование, процессуальное принуждение, меры пресечения, запрет определенных действий
Короткий адрес: https://sciup.org/143171859
IDR: 143171859 | УДК: 343.13 | DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10019
Текст научной статьи Виды ограничений, применяемых в рамках мер пресечения
Меры пресечения применяются практически по каждому уголовному делу. Основаниями избрания мер пресечения, в соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ1, являются достаточные основания полагать, т. е. строить обоснованные предположения о том, что обвиняемый (подозреваемый):
-
1) скроется от предварительного расследования или суда;
-
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
-
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Кроме того, в ч. 2 ст. 97 УПК РФ содержатся специфические основания избрания меры пресечения — обеспечение исполнения приговора либо возможной экстрадиции обвиняемого в иностранное государство. Специфика первого из этих оснований определяется его пределами. Оно применяется исключительно для обеспечения имущественных аспектов исполнения приговора (конфискации имущества, разрешения гражданского иска, наложения уголовного наказания имущественного характера, например, штрафа). Особенность второго основания, названного в ч. 2 ст. 97 УПК РФ, состоит в том, что оно используется в ситуациях, когда уголовное дело расследуется, а лицо обвиняется в совершении преступления правоприменительными органами иностранного государства. Соответственно, в Российской Федерации уголовное преследование лица не осуществляется, а избрание меры пресечения осуществляется в порядке реализации принятых на себя государством обязанностей по международному сотрудничеству в сфере противодействия преступности.
В настоящий момент уголовно-процессуальный закон предусматривает восемь мер пресечения, которые исчерпывающим образом указаны в ст. 98 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ, по уголовному делу к обвиняемому (подозреваемому) допускается одновременное применение только одной меры пресечения.
Такой подход вызывает критику среди процессуалистов. Предлагается либо разрешить избрание одновременно нескольких мер пресечения [9, с. 8; 10, с. 19], либо создать «комплекс мер пресечения по типу „конструктора“, создавая из отдельных запретов и обеспечительных мер оптимальный механизм воздействия на обвиняемого в целях достижения назначения уголовного процесса и эффективного применения средств уголовно-процессуальной репрессии» [5, с. 36]. Такие предложения отражают стремление добиться рационализации системы ограничений, применяемых к обвиняемому (подозреваемому) при избрании меры пресечения и обеспечить должное поведение соответствующего лица. Однако они содержат в себе внутренние противоречия.
Неясно, зачем избирать к обвиняемому (подозреваемому) несколько мер пресечения, существенно отличающихся по своей правовой природе и налагаемым ограничением. Фактически это будет означать то, что к лицу применяются средства принудительного воздействия, предусмотренные наиболее строгой мерой пресечения, а остальные, присущие другим мерам пресечения, выглядят бесполезными формальностями. С некоторой долей условности такой порядок можно сравнить с практикуемым в США назначением в одном приговоре одновременно нескольких наказаний в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Очевидно, что каждое последующее такое наказание не имеет практического смысла.
Создание «процессуального конструктора» более оправданно, однако и эта нормативная модель вызывает существенные вопросы. Становится ненужной система мер пресечения, достаточно предусмотреть меру пресечения как таковую с набором различных ограничений, которые будут избираться в зависимости от обстоятельств уголовного дела. Вместе следует согласиться с авторами, полагающими, что именно разветвленность системы мер пресечения свидетельствует о высоком уровне правовой культуры [3, с. 51], поскольку в таких условиях можно в полной мере учесть специфику конкретного уголовного дела и индивидуальные особенности конкретного обвиняемого (подозреваемого).
Существующая в настоящее время нормативная конструкция, предоставляющая возможность избрания единственной меры пресечения, представляется более правильной. Ее несомненное преимущество в том, что каждая мера пресечения содержит особое, неповторимое сочетание принудительных элементов и ограничений. С одной стороны, лицо, в отношении которого избирается мера пресечения, четко представляет, какие именно ограничения будут установлены этой мерой, и это обеспечивает соблюдение прав соответствующего обвиняемого (подозреваемого). С другой стороны, орган предварительного расследования выбирает именно ту меру пресечения, которая, с его точки зрения, способна обеспечить должное поведение участника уголовного судопроизводства.
При этом законодатель учитывает определенные коллизии. Так, мера пресечения в виде залога не содержала никаких ограничивающих механизмов, кроме внесения ценностей, поэтому на современном этапе к лицу, в отношении которого избран залог, можно дополнительно применить некоторые ограничения, предусмотренные другой мерой пресечения — запретом определенных действий.
Таким образом, законодателем создана весьма специфическая нормативная конструкция. К обвиняемому (подозреваемому) применяется только одна мера пресечения, но при этом в прямо установленных законом случаях, в ее рамках могут дополнительно назначаться ограничения, предусмотренные другой мерой пресечения. Эта модель восприняла некоторые идеи «процессуального конструктора», однако она оставляет систему самостоятельных мер пресечения, с индивидуальным набором принудительных средств. Происходит определенное комбинирование основного ограничения, установленного одной мерой пресечения, с некоторыми другими ограничениями [4, с. 21—22; 8, с. 107]. Указанный подход в настоящее время представляется оптимальным, позволяющим проявлять гибкость при избрании мер пресечения [7, с. 40; 11, с. 85]. Вместе с тем дальнейшее распространение подобной схемы на иные меры пресечения требует осторожности. Так, Н. Н. Апостоло- ва предлагает применять предусмотренные ст. 105.1 УПК РФ ограничения при избрании таких мер пресечения, как подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним [1, с. 23—25]. Однако данные меры пресечения изначально конструировались законодателем как затрагивающие личные права граждан в наименьшей степени. По смыслу закона, они избираются тогда, когда есть минимальная, скорее абстрактная, чем конкретная возможность того, что обвиняемый (подозреваемый) скроется от предварительного расследования или суда. Возложение в подобной ситуации на обвиняемого (подозреваемого) достаточно жестких запретов, предусмотренных ст. 105.1 УПК РФ, вряд ли будет соответствовать логике нормативной регламентации.
Каждая мера пресечения характеризуется определенными ограничениями, составляющими ее содержание и позволяющими варьировать выбор конкретной меры пресечения. Вопрос о правовой природе данных ограничений активно обсуждался в научной литературе. Вместе с тем не все аспекты освещены в объеме, соответствующем сложности и актуальности проблемы. Кроме того, фактически остаются неучтенными те ограничения, которые предусмотрены нормативной конструкцией запрета определенных действий.
Традиционно указывается, что все средства принудительного воздействия, применяемые в рамках мер пресечения, зависят от содержания ограничиваемых ими прав человека и в соответствии с этим подразделяются на три вида: физические, имущественные и психологические [6, с. 28]. Физические средства сопряжены с непосредственным лишением возможности лица осуществлять какие-либо действия, как правило, связанные со свободой передвижения. Соответственно, полагается, что физические ограничения лежат в основе таких мер пресечения, как заключение под стражу и домашний арест. Имущественные принудительные средства означают возможность лишения лица материальных благ. Исходя из этого, имущественный характер носит залог. Наконец, остальные средства воздействуют на лицо, к которому применена мера пресечения, психологически, вынуждая его через такое воздействие отказаться от совершения действий, нежелательных в процессе уголовного судопроизводства.
Однако такая классификация средств принудительного воздействия, на которых основаны меры пресечения, представляется весьма упрощенной и не совсем полной.
Во-первых, сложно согласиться с тем, что некоторые меры пресечения основаны исключительно на психологических средствах воздействия на обвиняемого (подозреваемого). Если согласиться с этим, то придется признать, что в основе некоторых мер пресечения лежит ничем не подкрепленное обещание обвиняемого (подозреваемого) даже не действовать определенным образом, а лишь отказаться от отдельных видов откровенно неприемлемого по-
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13) === ведения в рамках уголовного судопроизводства. Такая конструкция превращает меру пресечения в эфемерное явление, не гарантированное никакими реальными механизмами.
Во-вторых, не учитываются те принудительные средства, которые в виде запретов предусмотрены в ст. 105.1 УПК РФ. Например, запрет нахождения в определенных местах, общения с определенными лицами, управления транспортными средствами крайне сложно квалифицировать как физический, поскольку в основе этих ограничений лежат иные явления.
Анализ содержания ограничений, положенных в основу мер пресечения, целесообразно начать с изучения более общего вопроса — общих обязанностей обвиняемого (подозреваемого) как участника уголовного судопроизводства. В ст. 46 и 47 УПК РФ не содержится ни одной обязанности данных субъектов. При этом уголовно-процессуальный закон закрепляет среди обязанностей потерпевшего и свидетеля не уклоняться от органов предварительного расследования и суда. Непонятно, почему эта организационная обязанность, не связанная с требованием оказывать расследованию содействия в установлении обстоятельств совершения преступления, не введена для обвиняемого (подозреваемого). Очевидно, что эти участники не могут принуждаться к выяснению истины (для них это равносильно содействию в изобличении самих себя в совершении преступного деяния). Однако обязанность участвовать в уголовно-процессуальной деятельности лежит в основе положения любого участника уголовного судопроизводства, в том числе обвиняемого (подозреваемого). Соответственно, организационные требования субъекта, уполномоченного на осуществление этой деятельности в зависимости от стадии уголовного процесса, обязательны для исполнения в том числе обвиняемым (подозреваемым). К таким обязанностям, в частности, относится необходимость прибывать в установленное время для проведения процессуальных действий.
Кроме того, очевидно и наличие обязанности обвиняемого не уклоняться от органов уголовного судопроизводства, а также не оказывать противоправного воздействия на участников уголовного процесса. Эта обязанность также находится в основе процессуального положения обвиняемого (подозреваемого), ее наличие подразумевается смыслом закона, она существует даже в отсутствие прямой формулировки в тексте уголовно-процессуального закона. Иначе невозможно представить структурированность уголовного судопроизводства, его направленность на реализацию своего назначения.
Представляется, что подобные обязанности обвиняемого (подозреваемого) вытекают непосредственно из его процессуального статуса и существуют вне зависимости от избрания в отношении него меры пресечения. Это усматривается и из смысла закона, согласно которому соответствующие обстоятельства являются основаниями избрания мер пресечения, но не их содержанием. Другой вопрос, что мера пресечения позволяет упорядочить ис-
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13) === полнение этих обязанностей и, самое важное, изменить объем и характер оказываемого на обвиняемого (подозреваемого) уголовно-процессуального принуждения в силу их ненадлежащего исполнения. Мера пресечения, с методологической точки зрения, устанавливает не столько обязанности обвиняемого (подозреваемого) не нарушать распорядок уголовного судопроизводства, сколько конкретные ограничительные механизмы, позволяющие реализовать соответствующие обязанности.
Однако в настоящее время реальность такова, что о наличии обязанностей обвиняемого (подозреваемого) не скрываться от органов предварительного расследования и суда, не продолжать заниматься преступной деятельностью и не противодействовать судопроизводству, можно судить лишь по нормам УПК РФ, регламентирующим меры пресечения. При этом, по буквальному смыслу закона, данные обязанности возникают у обвиняемого (подозреваемого) только в рамках избранной ему меры пресечения.
Представляется, что нормативная конструкция должна быть несколько изменена. Необходимо закрепить общие обязанности обвиняемого (подозреваемого): являться по вызовам органов предварительного расследования и не оказывать неправомерного воздействия на участников уголовного судопроизводства. Эти обязанности будут органически сочетаться с мерами пресечения. Основаниями мер пресечения выступают обоснованные предположения о возможности негативного поведения обвиняемого, сопряженного с неисполнением им своих обязанностей, а содержанием мер пресечения — конкретные принудительные средства, присущие соответствующей мере пресечения.
Эти изменения помогут решить одну существенную коллизию. Мера пресечения, предусмотренная ст. 105.1 УПК РФ, устанавливает несколько запретов, не связанных с недопустимостью выхода за пределы жилого помещения, в котором проживает обвиняемый (подозреваемый) (п. 2—6 ч. 6 ст. 105.1. УПК РФ). В ч. 13 ст. 105.1 УПК РФ говорится, что в случае нарушения лицом данных запретов мера пресечения может быть заменена на более строгую. Вместе с тем неясно, может ли иметь место изменение данной меры пресечения, если обвиняемый (подозреваемый) не является без уважительных причин по вызовам органа предварительного расследования или суда. По буквальному смыслу закона, такие действия не являются нарушением запрета определенных действий и не влекут неблагоприятных последствий для обвиняемого (подозреваемого). Такая ситуация весьма абсурдна, поскольку обвиняемый (подозреваемый) подобными поступками дезорганизует уголовное судопроизводство.
В ст. 106 УПК РФ, регламентирующей порядок применения залога, вообще не говорится о замене этой меры пресечения на более строгую. Очевидно, что в подобных случаях следует руководствоваться общей нормой,
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13) === предусмотренной ч. 1 ст. 110 УПК РФ. Однако в ней говорится только об изменении оснований, указанных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ.
Получается, что нарушением обвиняемым (подозреваемым) своей базовой обязанности по явке к органам уголовного судопроизводства, вытекающей из самой сути его процессуального статуса, само по себе не является основанием для изменения меры пресечения на более строгую.
Также важно уяснить, какого рода принудительные средства допустимы в рамках мер пресечения.
Представляется, что эти средства можно разделить на следующие группы.
Первую группу образуют средства физического характера. Это непосредственно ограничение лица в возможности свободно передвигаться [2, с. 16]. Такие средства присущи мерам пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а также запрета выхода из жилого помещения в рамках запрета определенных действий. Эти меры пресечения предполагают невозможность обвиняемого (подозреваемого) выхода за пределы места его нахождения. При заключении под стражу местом пребывания является специальное государственное учреждение (следственный изолятор) с принудительным режимом содержания, сопоставимым с тюремным. В условиях домашнего ареста и запрета выхода из жилого помещения местом нахождения является жилое помещение, в котором обвиняемый (подозреваемый) проживает на законных основаниях, либо медицинский (психиатрический) стационар, куда он помещается в связи с соответствующим заболеванием. Несмотря на то, что режим содержания в этих местах несравним с точки зрения комфорта, личной свободы в пределах соответствующего помещения, с точки зрения мер пресечения ограничения, существующие в рамках заключения под стражу и домашнего ареста, выглядят вполне сопоставимыми и однородными.
Вторая группа принудительных средств — это средства имущественного характера. Они присущи такой мере пресечения, как залог, и состоят во внесении обвиняемым (подозреваемым), либо в его интересах залогодателем определенных ценностей, опасение лишиться которых, по логике законодателя, призвано служить сдерживающим фактором для обвиняемого (подозреваемого).
Данная категория средств обладает двумя группами ограничений. Во-первых, это невозможность пользоваться и распоряжаться предметом залога во время нахождения соответствующих средств в данном качестве. Во-вторых, это обращение предмета залога в доход государства в случае нарушения обвиняемым (подозреваемым) своих обязательств в рамках избранной меры пресечения.
Следует заметить, что существуют проблемы эффективности реализации ограничительных средств имущественного характера. Они возникают,
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13) === прежде всего, в случаях внесения залога не обвиняемым (подозреваемым), а иным лицом. В этих ситуациях обвиняемый (подозреваемый) даже при обращении залога в доход государства лично не претерпевает никаких отрицательных последствий. Соответственно, неясно, каким образом залог может удержать его от совершения тех или иных действий.
Третью группу принудительных средств можно назвать организационно-ограничительными. Именно эти средства, а не абстрактное психологическое воздействие следует расценивать как основное содержание практически всех мер пресечения, не связанных с изоляцией лица от общества.
Следует учитывать, что некоторые из организационно-ограничительных средств в настоящее время получили прямое закрепление в тексте уголовно-процессуального закона в рамках ст. 105.1 УПК РФ: запреты нахождения в определенных местах или на определенном расстоянии от них, посещения мероприятий и участия в них, запрет общения с определенными лицами, отправления и получения почтово-телеграфных отправлений, использования средств связи и Интернета, управления транспортными средствами. Некоторые запреты предусматривают дополнительные механизмы их фактической реализации. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 105.1 УПК РФ, в случае возложения на обвиняемого (подозреваемого) запрета управлять транспортным средством производится изъятие у лица водительского удостоверения, которое хранится при уголовном деле до отмены соответствующего запрета. Очевидно, что изъятие названных документов должно производиться непосредственно в рамках применения меры пресечения, проведения отдельного следственного действия (обыска или выемки) для этого не требуется.
Еще одним прямо разрешенным законом организационно-ограничительным средством является применение к обвиняемому (подозреваемому) аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля (электронных браслетов, трекеров), которые используются в рамках домашнего ареста и частично — запрета определенных действий).
Вместе с тем некоторые организационно-ограничительные средства не фиксируются в УПК РФ, а предусмотрены ведомственными нормативными актами либо выработаны правоприменительной практикой. К таковым, в частности, относятся определенные механизмы контроля за перемещением обвиняемого (подозреваемого), в отношении которого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Следственная практика требует от следователя (дознавателя) направлять уведомления в следующие органы:
-
— подразделение по вопросам миграции органа внутренних дел по месту регистрации обвиняемого (подозреваемого);
-
— отдел кадров по месту работы;
-
— военный комиссариат по месту постановки обвиняемого (подозреваемого) на воинский учет;
-
— подразделение оперативно-розыскной информации органа внутренних дел на транспорте.
Эти уведомления в практической деятельности получили наименование «сторожевые листки».
Наличие такого уведомления позволяет предотвратить снятие обвиняемого (подозреваемого) с регистрационного либо воинского учета, увольнение с места работы, приобретение билетов на поездку воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом (если это связано с необходимостью предъявления паспорта). Это весьма эффективное средство предотвращения уклонения обвиняемого (подозреваемого) от явки к органам уголовного судопроизводства.
Возникает вопрос о законности применения подобных мер в отсутствие их прямого закрепления в уголовно-процессуальном законе. С одной стороны, эти ограничения весьма существенно затрагивают права и свободы граждан, в том числе предусмотренные непосредственно в Конституции Российской Федерации. С другой стороны, данные ограничительные механизмы не превышают тот объем принуждения, который имманентно присущ мерам пресечения, в рамках которых эти ограничения действуют. Очевидно, что, если подписка о невыезде и надлежащем поведении предусматривает обязанность обвиняемого (подозреваемого) не покидать место своего жительства без разрешения органов предварительного расследования и суда, эти органы, избирая данную меру пресечения, вправе установить определенные механизмы обеспечения и контроля.
Необходимо учитывать, что само по себе выставление «сторожевого листка» не содержит дополнительных ограничений прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), которые не предполагались бы избираемой в отношении него мерой пресечения. Иными словами, недопущение снятия с регистрационного или воинского учета, приобретения проездных билетов не являются самостоятельными ограничениями, а представляют собой механизм обеспечения запрета покидать место жительства. Соответственно, подобные действия следователя (дознавателя) вполне правомерны и не нарушают конституционные права обвиняемого (подозреваемого) сверх той меры, в которой они ограничены его уголовно-процессуальным статусом.
Таким образом, теоретическая конструкция меры пресечения состоит из нескольких элементов.
Первый элемент — это основания избрания меры пресечения, т. е. предусмотренные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, свидетельствующие о возможности совершения обвиняемым (подозреваемым) тех или иных действий, могущих негативно влиять на ход и результаты уголовного судопроизводства.
Второй элемент — это запреты, составляющие содержание меры пресечения.
Третий элемент — это конкретные ограничительные меры, направленные на фактическое исполнение запретов, предусмотренных мерой пресечения.
Кроме того, следует учитывать общепроцессуальную обязанность обвиняемого (подозреваемого) не уклоняться от органов предварительного расследования и суда, прибывать по их вызовам, не входящую в содержание меры пресечения, а органически вытекающую из статуса обвиняемого (подозреваемого).
Список литературы Виды ограничений, применяемых в рамках мер пресечения
- Апостолова Н. Н. Запрет определенных действий в системе мер пресечения // Российская юстиция. - 2019. - № 3. - С. 23-25.
- Белозерцев С. М., Балашова А. А. Проблемы, возникающие при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2017. - № 1. - С. 16-24.
- Бушная Н. В. Запрет определенных действий - уголовно-процессуальная новелла // Законность. - № 4. - 2019. - С. 50-52.
- Воронов Д. А. Запрет определенных действий в рамках залога, домашнего ареста и новой меры пресечения // Российский судья. - 2016. - № 3. - С. 21-25.
- Деришев Ю. В., Земляницин Е. И. Запрет определенных действий - новая старая мера пресечения // Законность. - 2019. - № 6. - С. 33-38.
- Капинус Н. И. Меры пресечения в российском уголовном процессе // Следователь. - 1998. - № 8 (16). - С. 27-29.
- Качалова О. В. Действие принципа неприкосновенности личности при применении заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий в уголовном судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2019. - № 3. - С. 38-42.
- Марковичева Е. В. Запрет определенных действий как основа избрания комбинированных мер пресечения // Уголовное право. - 2019. - № 2. - С. 107-111.
- Ткачева Н. В. Теория и практика мер пресечения, не связанных с заключением под стражу: дис.. канд. юрид. наук. - Челябинск, 2003. - 248 с.
- Фетищева Л. М. Применение мер пресечения при производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности: автореф. дис.. канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2016. - 25 с.
- Хатуаева В. В. Запрет определенных действий - новелла в системе мер пресечения // Законодательство. - 2019. - № 8. - С. 82-85.