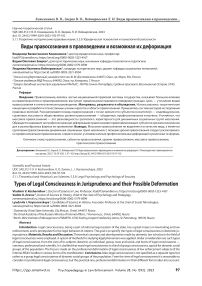Виды правосознания в правоведении и возможная их деформация
Автор: Владимир Валентинович Кожевников, Вадим Олегович Зверев, Людмила Ивановна Войнаровская
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Общетеоретические и отраслевые проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 1 (92), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Правосознание, являясь частью национальной правовой системы государства, оказывает большое влияние на правотворчество и правоприменение, выступает предпосылкой правового поведения граждан. Цель — уточнение видов правосознания в отечественном правоведении. Материалы, результаты и обсуждение. Использовались теоретические концепции и разработки отечественных ученых-юристов в области правосознания. Применялась система методов исследования правовых явлений. Рассматриваются виды правосознания с точки зрения его субъектов (носителей) — индивидуальное, групповое, массовое и общественное; уровни правосознания — обыденное, профессиональное и научное. Уточняется, что массовое правосознание — это разновидность группового, характерного для динамичных социальных групп населения. Обращается внимание на профессиональную деформацию правосознания правоприменяющих субъектов органов внутренних дел в разнообразных формах ее проявления. Выводы. Массовое правосознание не выделяется в качестве вида, а является групповым правосознанием динамичных социальных групп населения. С позиции уровня правосознания следует рассматривать не профессиональное правосознание, а практическое, учитывая наличие профессиональных деформаций в различных их формах.
Правосознание, субъекты правосознания, уровни правосознания, массовое правосознание, практическое правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/149141489
IDR: 149141489 | УДК: 340.312 | DOI: 10.24412/1999-6241-2023-192-97-102
Текст научной статьи Виды правосознания в правоведении и возможная их деформация
Scientific and Practical Article
UDC 340.312 © V. V. Kozhevnikov, V. О. Zverev, L. I. Voynarovskaya, 2023
-
5.1.1. Theoretical and Historical Law Sciences; 5.3.9. Legal Psychology and Psychology of Security
Types of Legal Consciousness in Jurisprudence and their Possible Deformation
Vladimir V. Kozhevnikov 1, Doctor of Science in Law, Professor; ;
Vadim O. Zverev 2, Doctor of Science in History, chief of the chair of Psychology and Pedagogy;
;
Lyudmila I. Voynarovskaya 3, Candidate of Science in History, Associate-Professor at the chair of Social Tehnologies; ;
-
1 Dostoevsky Omsk State University, 55a Mira pr., Omsk, 644077, Russia
-
2 the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs, 7 Komarov pr., Omsk, 644092, Russia
-
3 North-West Institute of Management of RANEPA, 57/43 Sredny prospect Vasilievsky ostrov, St. Petersburg, 199178, Russia
Introduction. Legal consciousness, being a part of national legal system of the state, has a great impact on lawmaking and law enforcement, and is prerequisite for the legal behavior of citizens. The goal is to specify the types of legal consciousness in domestic jurisprudence. Materials, Results and Discussion. Theoretical concepts and developments made by domestic law scholars in the field of legal consciousness were employed. A system of methods for studying legal phenomena was applied. Under consideration are such types of legal consciousness, from the view of its subjects (bearers), as individual, group, mass and social; and levels of legal consciousness — common, professional and scientific. It is clarified that mass legal consciousness is a kind of group consciousness, typical for dynamic social groups of the population. The focus is made on the professional deformation of legal consciousness of law enforcement subjects of the Internal Affairs’ bodies in various forms of its manifestation. Conclusions. Mass legal consciousness is not specified as a separate type, but rather as a group legal consciousness of dynamic social groups of the population. From the view of legal consciousness it is reasonable to consider not professional legal consciousness, but the practical one, professional deformations in their different forms taken into account.
Citation: Kozhevnikov V. V., Zverev V. О., Voynarovskaya L. I. Types of Legal Consciousness in Jurisprudence and their Possible Deformation. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2023. Vol. 28. No. 1(92). Pp. 97–102 (In Russ.). 24412/1999-6241-2023-192-97-102
Основные положения
-
1. Правосознание — совокупность чувств, настроений, представлений, взглядов и т. п., в которых выражено отношение к действующему праву, к вновь создаваемым юридическим нормам, ко всей государственно-правовой действительности.
-
2. Правосознание в юридической науке подразделяется по субъектам (носителям) правосознания и по его уровню.
-
3. Профессиональная деформация правосознания правоприменяющих субъектов проявляется в разнообразных формах и обусловливает негативные последствия в оценке населением деятельности соответствующих правоохранительных органов.
Введение
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Актуальность обусловливается тем обстоятельством, что правосознание как часть национальной правовой системы пронизывает все стадии правотворческого процесса; оказывает влияние на осуществление правовых норм гражданами; играет важную роль в правоприменении [1–3]. Правосознание — это своеобразный фильтр, через который пропускаются различные факторы, влияющие на право. В свое время Е. А. Лукашева подчеркивала, что «правосознание, отражая объективные условия общественного развития, направляет, регулирует и координирует социальную практическую деятельность людей, преобразуясь в ходе этой деятельности, наполняясь новым содержанием» [4, с. 5].
Цель исследования — уточнить виды правосознания в отечественном правоведении.
Результаты и обсуждение
Среди проблем правосознания необходимо обратить внимание на его виды, т. е классификацию. В отечественной юридической литературе классификация традиционно представляется с учетом таких оснований, как а) субъекты (носители) правосознания; б) его уровень.
Субъекты правосознания. С точки зрения первого критерия правосознание дифференцируется на 1) индивидуальное; 2) групповое и 3) общественное 1 [4, с. 6]. В энциклопедическом юридическом словаре указывается, что «правосознание — категория теории государства и права и криминологии, означающая сферу общественного, группового и индивидуального сознания, связанную с отражением правозначимых явлений и обусловленную правозначимыми ценностями, правопониманием, представлением должного правопорядка» 2. Обращая внимание на другое деление видов правосознания, полагаем, что первый вариант является более оправданным.
Индивидуальное правосознание складывается у отдельного человека под воздействием разнообразных факторов и отношений, в которые он вступает, а также его психологических свойств. Уровень культуры, образования, социальное положение и др. обусловливают особенности правосознания каждого человека. Групповое правосознание отражает специфику той или иной социальной группы. Общность интересов членов группы определяется сходством восприятия ими государственно-правовой действительности, в том числе единообразным представлением о том, каким должно быть право. В этом плане можно говорить о правосознании молодежи, судей, адвокатов, врачей, педагогов и т. д. Общественное правосознание связано с характером отношений к праву в обществе. Оно обусловлено индивидуальным и групповым правосознанием, но не сводится к нему. Вместе с тем общественное правосознание непосредственно воздействует на правосознание индивидуальное и групповое.
В рамках данной классификации рассматривается и такой вид правосознания, как массовое, которому ученые придают следующий смысл. Есть авторы, отождествляющие массовое правосознание с групповым. Так, Р. Х. Макуев утверждал, что «общественное (массовое) правосознание — правосознание гражданского общества, основанное на результате оценки (на уровне теории, психологии или их симбиоза) исторической практики взаимодействия с государством. Это правосознание макроколлектива (нации, населения, страны, континента, мирового сообщества, исторической эпохи)» 3. Думается, что указанной точки зрения придерживается и В. И. Чер-вонюк, считающий, что, в отличие от индивидуального и группового, массовое правосознание менее ситуативно, имеет свои, особенные формы выражения, например проявляется в ходе общенациональных выборов, референдумов. Автор полагает, что «индивидуальное и групповое правосознание подвержено действию массового правосознания» 4. В философском словаре также подчеркивается, что «массовое сознание (в том числе и правосознание. — Авт.) — общественное сознание масс (классов, социальных групп, конкретного общества), отражающее условия их повседневной жизни, потребности, интересы». Оно «включает в себя распространенные в обществе идеи, взгляды, представления, иллюзии, социальные чувства людей» 5. В. К. Самигуллин, выделяя следующие «срезы» правосознания: индивидуальное, групповое и массовое, поясняет, что «носителем индивидуального правосознания является отдельный человек, группового — группа, массового — неорганизованная группа людей, объединенная какой-то идеей, целью» [5, с. 6]. Автор, конкретизируя свою позицию, пишет, что носителем массового сознания, которое «питается» слухами, мифами, искаженными представлениями о законах и практике их осуществления, является масса, которая с трудом поддается классификации, ибо «оно представляет правосознание и „дна“ общества, и людей, относящихся к благополучным социальным слоям; носителем массового правосознания может быть и больной человек, и здоровый, слепой и зрячий, алкоголик и трезвенник, необразованный и образованный, служащий и предприниматель, рабочий и безработный, свободный (несудимый), заключенный или освобожденный из мест заключения и т. д.» [5, с. 8]. В. К. Самигуллин полагает, что «здесь общим для правосознания всех является нелинейность, фрагментарность, инертность и неустойчивость, неровность в соотношении идеологического и социальнопсихологического компонентов, импульсивность, сочетание правды и кривды, погрешности в правовых знаниях, приблизительное представление о значимых юридических фактах, значительные произвольные допущения в рассуждениях и высказываниях» [5, с. 14].
На наш взгляд, указанная позиция должна быть подвергнута критике, ибо ученые, ее поддерживающие, исходят не из критерия субъекта (носителя) правосознания, а из степени распространенности правосознания.
Другая группа авторов, приверженцев массового правосознания, считает, что последнее характерно для нестабильных, временных объединений людей (митинги, демонстрации, бунтующая толпа) 6. Полагаем, что и эта точка зрения является дискуссионной. В словаре С. И. Ожегова слово массовый толкуется как «совершаемый большим количеством людей, свойственный массе людей… распространяющийся на множество, многих…» 7. Н. А. Пьянов, рассуждая о массовом правосознании и отмечая, что единообразного понимания этот вид правосознания не получил (одни отождествляют его с обыденным правосознанием, другие — с обще- ственным, третьи считают его самостоятельным видом правосознания наряду с индивидуальным, групповым и общественным), писал, что массовое правосознание — это «обыденное правосознание, поскольку основная масса членов общества имеет самые общие, подчас весьма поверхностные представления о праве и других правовых явлениях» 8.
Думается, что так называемое массовое правосознание — это тоже групповое правосознание, свойственное динамичным социальным группам, входящее в один вид с групповым правосознанием, характеризующее правосознание стабильных социальных групп. «Эта классификация правосознания вполне вписывается в следующую закономерность: общественное правосознание складывается из представлений о юридической действительности отдельных индивидов, отдельных социальных групп» 9. Справедливости ради заметим, что закономерность в ряде случаев выражается следующим образом: «Общественное правосознание оказывает воздействие на групповое, которое, в свою очередь, накладывает отпечаток на индивидуальное»10.
Уровни правосознания. Как известно, большинство исследователей теории права с позиции данного критерия выделяют следующие виды: 1) обыденное правосознание, свойственное основной массе членов общества, формирующееся на базе повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования. Для людей с этим уровнем правосознания характерно знание общих принципов права, у них правовые воззрения тесно переплетаются с нравственными представлениями; 2) профессиональное правосознание, которое складывается в ходе специальной подготовки (например, при обучении в юридическом образовательном учреждении), в процессе практической юридической деятельности. Субъекты этого уровня обладают специализированными, детализированными знаниями действующего правосознания, умениями и навыками его применения; 3) научное, теоретическое правосознание, характерное для исследователей, научных работников, занимающихся вопросами правового регулирования общественных отношений. В основном соглашаясь с предложенной классификацией правосознания, отметим, что подавляющее большинство ученых-юристов выступают сторонниками выделения профессионального правосознания. В. Н. Протасов и Н. В. Протасова считают, что «профессиональное правосознание является групповым правосознанием людей, получивших специальное юридическое образование и профессионально занимающихся юридической деятельностью. Профессиональное правосознание — это официально-должностное правосознание»11. Н. Л. Гранат утверждала, что «профессиональное правосознание — это правовое сознание юристов… в зависимости от предмета отражения в правосознании юриста образуются сферы, соответствующие разным отраслям правовых отношений (например, хозяйственным, коммерческим, гражданско-правовым, уголовно-правовым, уголовно-процессуальным и т. д.)»12. Т. Н. Радько, уточняя, пишет, что «профессиональное правосознание необходимо в определенном объеме не только юристам, но и тем сотрудникам различных органов и организаций, которые связаны с правовыми отношениями, правовыми документами (работники кадровых, социальных, коммерческих и т. п. служб), ибо их решения должны приниматься на основании и в рамках закона (назначение пенсии, определение меры взыскания, заключение договора и др.)»13.
Вызывает большие сомнения, что данный вид правосознания почти все ученые определяют как профессиональное. Дело в том, что тем самым каждый субъект правоприменения рассматривается как носитель профессионального правосознания. Между тем это далеко не так. И. М. Карелина полагает, что «профессионал — это квалифицированный (курсив наш. — Авт. ) человек, продающий результаты своего труда. В отличие от профессионала, дилетант — это человек, не имеющий стандартного уровня профессиональной квалификации» [6, с. 3].
Как известно, будущие правоприменители получают специализированное юридическое образование на основе комплексного подхода. В результате анализа же компетенций сложилось неприятие некоторых из них. Например, компетенция ОК-1 формулировалась так: «Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания». Даже студенты, изучавшую такую важную, методологическую науку, как теория государства и права, хорошо знают, что профессиональное (пока будем оперировать этим термином) правосознание состоит из взглядов, складывающихся у работников, непосредственно занимающихся юридической деятельностью и имеющих правовые знания и опыт работы (судьи, адвокаты, следователи, прокурорские работники, иные госслужащие, юрисконсульты и т. д.). Профессиональное правосознание формируется на основе получения юридического образования и юридической практики 14. В. И. Червонюк уточняет, что профессиональное правовое сознание — это представление о праве, которое складывается у служащих государственного аппарата (в особенности у юристов-практиков) на основе мировоззренческой идеологии и специальных юридических знаний и аккумулирует юридическую практику, опыт применения права, компетентное понимание всех сторон его содержания15. На наш взгляд, выпускники юридических вузов, даже самые лучшие из них, имеют обыденное правосознание, качественно отличающееся от обыденного правосознания граждан, однако стремящееся к профессиональному, оно обусловливается не только субъективными, но и объективными факторами.
Профессиональные деформации правосознания. Интересно, что даже авторы, признающие профессиональный уровень правосознания, которому свойственны высокая устойчивость, уважение права, готовность следовать его предписаниям, полная правовая информированность, установка на активное, творческое правомерное поведение, обращают внимание и на его деформации, порождаемые прежде всего юридической практикой, в том числе обвинительный уклон, формализм, стремление действовать в соответствии с буквой, а не духом закона и др. 16
Опасность профессиональной деформации заключается не столько в ней самой, сколько в отношении к ней. Осведомленность о данном явлении и в связи с этим критическое отношение к оценке своих решений и действий могут предостеречь практических работников органов внутренних дел от неверных поступков. Напротив, отсутствие критичности, самонадеянность и самоуспокоенность, забвение того, что каждое юридическое дело индивидуально, проявление чувства всезнания и отсюда своей непогрешимости могут привести к обвинительному уклону и обусловить серьезные ошибки в процессе правоприменения. Профессиональная деформация — это негативное социально-психологическое явление, предстающее в виде разнообразных личностных поведенческих проявлений, оказывающих деструктивное влияние на процесс и результат профессиональной деятельности. Это такое состояние, при котором человек переносит образы некоей группы людей на всех. Например, врач начинает считать всех людей больными, надзиратель — заключенными, следователь — преступниками (подозреваемыми). Это лишь одно из проявлений профессиональной деформации.
Как пишет М. И. Еникеев, «властные полномочия следователя могут вызвать и закрепить такие негативные личностные качества, как высокомерие, чванливость, грубость, душевная черствость. Постоянное подчинение деятельности следователя процессуальной регламентации может содействовать ригидности, негибкости, приверженности к шаблонным решениям, формализму; постоянное соприкосновение с асоциальными проявлениями — сформировать устойчивую подозрительность, предвзятость, склонность к обвинительному уклону в своей деятельности. Часто возникающий дефицит времени может привести к торопливости, поверхностности, пренебрежительности к отдельным процессуальным требованиям. Эти возможные проявления личностнопрофессиональной деформации должны быть сняты развитым устойчивым самоконтролем следователя» 17. При этом подчеркнем, что профессиональная деформация правоприменяющих субъектов органов внутренних дел в разнообразных формах ее проявления объективно обусловливает не только негативные юридические, но и неюридические последствия, в частности низкую оценку населением деятельности соответствующих правоохранительных органов.
В. К. Самигуллин, определяя профессиональное правосознание как «элемент профессиональной культуры; чувства, убеждения, традиции, складывающиеся в процессе специальной подготовки и постоянно „под-питываемые“ юридической практикой, взятой во всей ее сложности», особо акцентирует внимание на профессиональной деформации, которая «может выражаться в переоценке профессионалами (дознавателями, следователями, прокурорами, адвокатами, судьями) своих знаний, снижении самокритичности в отношении принимаемых решений, пренебрежении формальными требованиями закона, если они расходятся с их мнениями» [5, с. 217].
Как считает Н. Я. Соколов, «имея свои исключительные стороны, обусловленные специализацией, правовое сознание юристов по этой же причине страдает недостатками. Одностороннее влияние профессионального опыта юристов может привести к костным стереотипам, шаблонным оценкам, снижению эмоционального отношения к происходящему, пренебрежению непрофессиональным мнением. Встречаются и такие юристы, которые подвержены формализму, бюрократизму, а порой и сами встают на путь нарушения требований закона» [7, с. 27].
Результатом социологических исследований Н. Я. Соколова явилась типология юристов, в основе которой лежит правовой консенсус юристов с точки зрения духа и буквы закона, а также их социальная активность в сфере права: 1) службист — умело сочетает дух и букву закона, но не стремится к каким-либо изменениям закона и практики; 2) прагматик — понимает дух и букву закона, но заинтересован прежде всего в «прохождении» дела и в связи с этим ориентируется на мнение лиц, от которых зависит окончательное решение вопроса; 3) энтузиаст — умело сочетает дух и букву закона, стремится в общественных интересах к совершенствованию законодательства и юридической практики; 4) флюгер — допускает отступления от требований закона под давлением вышестоящих или местных руководителей; 5) педант — предельно строго руководствуется буквой закона, но поступается подчас его духом ради соблюдения формы; 6) антипедант — руководствуется духом закона, но подчас допускает отступление от его буквы; 7) карьерист — склонен поступиться законом ради продвижения по службе; 8) бюрократ — заслоняется законом или якобы «не замечает» букву закона, выхолащивает его дух ради своего удобства и спокойствия; 9) лжеюрист — попирает в личных целях закон, пользуясь своим служебным положением [7, с. 205–207]. Наблюдения и выводы Н. Я. Соколова относятся ко второй половине 80-х гг. ХХ в., но не потеряли значения и применительно к нашему времени.
В контексте настоящего исследования весьма актуальными являются рассуждения Н. Л. Гранат, согласно которым становление специалиста, в частности следователя, проходит как бы два этапа: 1) в течение первых 5–7 лет работы в одной и той же службе, в одной и той же должности или по одной и той же специальности работник в нормальных условиях овладевает профессией, приобретает квалификацию; 2) через 7–10 лет и более, если не изменяются профиль и характер работы, отсутствует эффективная профилактика, происходят нежелательные изменения сознания и личности работника, которые принято называть профессиональной деформацией.
Автор утверждал, что профессиональная деформация является объективной закономерностью, во всяком случае, при решении мыслительных задач в юридически значимых ситуациях. Действие ее усиливается или ослабевает в зависимости от обстановки, атмосферы, в которых профессиональная деятельность и личность реализуются. Особое внимание Н. Л. Гранат обращала на то обстоятельство, что профессиональная деформация обусловливает нежелательные изменения в представлении и оценке принципов норм права и морали, их ценности и функций. На общесоциальном, мировоззренческом уровне такая деформация получила название «правовой нигилизм» [8]. Причем последний как результат социально-психологической деформации профессионально-правового сознания выражается в непризнании: 1) приоритета прав и свобод личности; 2) права и законности в качестве высших моральнополитических ценностей; 3) умалении их роли и значения в иерархии иных предпочтений и приоритетов18. Говоря о преступности в правоохранительных органах, И. И. Карпец отмечал, что «не меньшей трагедией для сотрудников является то, что они подвержены обратному влиянию самого преступного мира. Они видят зло насильственной преступности и сами привыкают к применению насилия» [9, с. 37].
Больше всего приговоров за коррупцию в РФ (672 из 898) с января по сентябрь 2021 г. было вынесено в отношении полицейских. За 9 месяцев 2021 г. в судах с участием прокуроров рассмотрено 8946 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 9948 лиц. Вынесены обвинительные приговоры по 7328 уголовным делам в отношении 8088 лиц, в том числе 467 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления (исполнительная власть — 171, исполнительная власть в субъектах — 61, главы муниципалитетов и местных администраций — 130). «Кроме того, депутаты субъектов Федерации — 7, депутаты органов местного самоуправления — 43, должностные лица правоохранительных органов — 898 (в том числе органы внутренних дел — 672, приставы — 47, таможня — 30, следствие и дознание — 62 (СК — 19, МВД — 38), прокуроры — 16, судьи – 9)», — отметил генеральный прокурор РФ И. В. Краснов в интервью РИА Новости19.
Практический уровень правосознания. Вышеизложенное не позволяет назвать анализируемый уровень правосознания профессиональным. По мнению Н. Я. Соколова, речь должна идти о практическом уровне правосознания, которое «связано с опытом непосредственного воздействия на реальную общественную жизнь...», «имеет большую четкость и организованность, опирается на опыт правового строительства» 20. Автор пишет, что «целесообразно в структуре правового сознания общества наряду с научным и обыденным выделить еще один, промежуточный уровень — практический» [7, с. 204].
В других работах Н. Я. Соколов также акцентирует внимание на практическом уровне правосознания, выделение которого «обусловливается в конечном счете самой природой права, отражающего реальную действительность более непосредственно, чем другие субъективные факторы, и более прямо ориентированного на саму реализацию в ней... Поэтому правовое сознание принадлежит к одной из наиболее активно действующих разновидностей общественного сознания, ибо в нем социально-практическая сторона как бы преобладает над познавательной и оценочной функциями» 21.
Выводы
-
1. Несмотря на существующие позиции ученых, которые либо отождествляют массовое и общественное правосознание, либо рассматривают массовое правосознание в качестве отдельного вида, полагаем, что массовое правосознание следует понимать как групповое, характерное для динамичных социальных групп населения.
-
2. С позиции уровня правосознания следует рассматривать не профессиональное правосознание, которое складывается в ходе специальной юридической подготовки, а практическое, учитывая, что далеко не все юристы-практики хорошо знают и понимают закон, уважительно к нему относятся.
-
3. Профессиональная деформация правосознания правоприменяющих субъектов органов внутренних дел наблюдается в разнообразных ее формах и объективно создает негативную почву для юридических и психологических оценок последствий их профессиональной деятельности, в частности, низкую оценку населением соответствующих правоохранительных органов.
Перспективы. Представляется, что рассмотренные в статье дискуссионные общетеоретические проблемы правосознания будут предметом дальнейших научных изысканий ученых-юристов.
Список литературы Виды правосознания в правоведении и возможная их деформация
- Kozhevnikov V. V., Cherednichenko A. E. The Question of the Legal Consciousness of a Society in Transition of Development of Russia: the Theoretical Aspect. Budapest International Institute for Research and Criticism. 2020. Vol. 3, No. 4. Pp. 3694–3703.
- Кожевников В. В. К проблеме предмета отражения правосознания и его структуры // Государство и право. 2020. № 12. С. 45–56.
- Kozhevnikov V. V. The issue of the legal consciousness of society in the context of the transitional development of Russia: theoretical aspect. Budapest International Institute for Research and Criticism. 2020. Vol. 3, Nо. 4. Pp. 3215–3225.
- Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. 344 с.
- Самигуллин В. К. Правосознание: корень добра и справедливости. Уфа, 2009. 284 с.
- Карелина И. М. Человек и профессия: Путь к гармонии: монография / под науч. ред. М. А. Дмитриевой. Омск, 2005. С. 3–12.
- Соколов Н. Я. Профессиональное сознание юристов: монография / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1988. 224 с.
- Гранат Н. Л. Деформации профессионального сознания личности работников правоохранительных органов и возможности ее профилактики // Проблемы действия права в новых исторических условиях. М., 1993. С. 30–40.
- Карпец И. И. Преступность: (Иллюзия и реальность). М., 1992. 432 с.