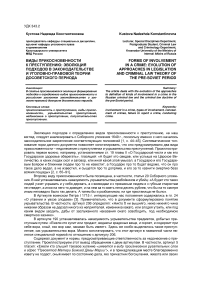Виды прикосновенности к преступлению: эволюция подходов в законодательстве и уголовно-правовой теории досоветского периода
Автор: Кустова Н.К.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается эволюция формирования подходов к определению видов прикосновенности в российском уголовном законодательстве и уголовно-правовой доктрине досоветского периода.
Прикосновенность к преступлению, виды прикосновенности, укрывательство преступлений, недонесение о преступлении, попустительство преступлению
Короткий адрес: https://sciup.org/14931912
IDR: 14931912 | УДК: 343.2
Текст научной статьи Виды прикосновенности к преступлению: эволюция подходов в законодательстве и уголовно-правовой теории досоветского периода
Эволюцию подходов к определению видов прикосновенности к преступлению, на наш взгляд, следует анализировать с Соборного уложения 1649 г., поскольку именно с него началось законодательное закрепление соответствующих положений [1, с. 44–45]. Систематическое толкование норм данного документа позволяет констатировать, что оно предусматривало два вида прикосновенности – недонесение о преступлении и укрывательство преступлений. Проиллюстрировать первое можно, например, установлениями ст. 19 главы II «О Государской чести и как его Государское здоровье оберегать», гласящей: «А будет кто сведав, или услыша на Царское Величество, в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысел, а Государю и его Государевым Бояром и ближним людем про то не известит, а Государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады» [2, с. 65–91].
Второму виду прикосновенности была посвящена, в частности, статья 20 Соборного уложения. В ней устанавливалась наказуемость укрывательства разбойников и убийц: «А будет кто таких людей учнет укрывать и у себя держать, а к воеводам и к приказным людем и к губным старостам не отведет, а инои на него то доведет, и на нем за то взять пени десять рублев, что бы на то смотря иным неповадно было так делать. А татем бы и розбоиником, ни где пристанища не было».
В Артикуле воинском Петра I 1715 г. интересующие нас положения содержались в гл. 24 «О утаении и увозе злодеев» [3]. Примечательно, что в документе сформулировано понятие укрывательства. В частности, артикул 206 определял: «Никто б ни вышняго, ниже нижняго чина никаким образом не дерзал никого из неприятелей, изменника какаго, или злодея утаить, или под каким видом уводить, дабы от заслужанного наказания онаго освободить, под необходимою смертною казнию».
В артикуле 190 устанавливалась наказуемость укрывательства предметов, добытых преступным путем: «Ежели кто купит или продаст, ведаючи краденыя вещи, и скроет, и содержит при себе вора, оный, яко вор сам, наказан быть имеет». Здесь же особо выделялось такое преступление, как укрывательство вора. Можно констатировать, что этот артикул в названной части являлся специальной нормой по отношению к артикулу 206.
Содержал документ и нормы, предусматривающие ответственность за недонесение о преступлении. Проиллюстрируем этот вывод обращением к двум артикулам. В частности, артикул 5 гласил: «Ежели кто слышит таковое хуление <имеется в виду произнесение ругательных слов в адрес "Пресвятой Матери Божией Девы Марии">, и в принадлежащем месте благовременно извету не подаст, оный имеет по состоянию дела, яко причастник богохуления, живота или своих пожитков лишен быть». Артикул 136 устанавливал наказание за недонесение за подстрекательство к бунту и возмущению: «Таким же образом <смертной казнью или телесными наказаниями > имеют быть наказаны и те, которые такие слова слышали или таковыя письма читали, в которых о бунте и возмущении упомянуто, а в надлежащем месте или офицерам своим вскоре не донесли».
Более обширную систему видов прикосновенности к преступлению предусматривало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В нем речь шла не только о недонесении о преступлениях и укрывательстве таковых, но и о попустительстве им. Причем в данном уголовном кодексе, впервые разделенном на Общую и Особенную части, положения о прикосновенности к преступлению содержались в обеих. В первой - в отделении третьем «О участии в преступлении» гл. 1 «О существе преступлений и проступков и о степенях вины» раздела первого «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще». В ст. 16 и 17 прикосновенными к преступлению признавали попустителей, то есть тех, «которые, имев власть или возможность предупредить преступление, с намерением или, по крайней мере, заведомо допустили содеяние оного»; укрывателей - тех, «которые, не имев никакого участия в самом содеянии преступления, только по совершении уже оного заведомо участвовали в сокрытии или истреблении следов его, или же в сокрытии самих преступников, или также заведомо взяли к себе или на сбережение, или же передали или продали другим похищенные или отнятые у кого-либо или же иным противозаконным образом добытые вещи»; недоносителей - тех, «которые, знав о умышленном или уже содеянном преступлении и имев возможность довести о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности».
В Особенной части содержались нормы об ответственности за прикосновенность к тем или иным конкретным преступным посягательствам. Иллюстрацией может служить, например, попустительство и укрывательство «злоумышления или преступного действия против священной особы государя императора», а также недонесение о них (ст. 265); укрывательство и недонесение о «злоумышлении или преступном действии против жизни, здравия, свободы, чести и высочайших прав наследника престола, или супруги государя императора, или прочих членов императорского дома» (ст. 266) [4, с. 45-47].
Период действия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. характеризуется и развитием теоретических подходов к пониманию прикосновенности к преступлению и ее видов. Следует заметить, что в доктрине уголовного права также выделялись три разновидности прикосновенности - укрывательство преступления, недонесение о нем и попустительство ему.
Определяя укрывательство и его отличие от соучастия, В.М. Шимановский отмечал: «По закону укрыватели - это те, которые, не имев никакого участия в самом содеянии преступлении, только по совершении уже оного заведомо участвовали в сокрытии или истреблении следов его, или же в сокрытии самих преступников, или также заведомо взяли к себе или приняли на сбережение, или же передали, или продали другим похищенные или отнятые у кого-либо, или же иным противозаконным образом добытые вещи» [5, с. 591].
Особым видом укрывательства признавалось пристанодержательство. Оно предполагало «заведомое дозволение лицам, принадлежащим к злонамеренной шайке, жительствовать или, хотя бы и временно, останавливаться или укрываться в домах или иных каких-либо местах, занимаемых так называемым пристанодержателями или состоящими в их управлении, или же под их присмотром» [6, с. 460]. В литературе подчеркивалось, что если будет доказано, что согласие укрывать преступников и их сообщников изъявлялось предварительно (то есть до совершения правонарушения), то пристанодержатели приговариваются к наказанию, предусмотренному для основателей и членов шайки. Другими словами, они должны быть приравнены к участникам преступления [7, с. 460].
Л.С. Белогриц-Котляревский выделял три разновидности укрывательства: 1) сокрытие преступника; 2) уничтожение следов преступления; 3) сокрытие вещей, добытых преступлением. При этом самой опасной считалась третья форма, поскольку такое проявление укрывательства окрашено корыстью, тогда как две первые могли совершаться и по альтруистическим мотивам - из чувства родства, дружбы или сострадания к виновному [8, с. 225-226].
Определяя природу прикосновенности, А.Ф. Кистяковский писал, что «прикосновенные к преступлению лица стоят лишь близ него, тогда как участвующие находятся внутри; первые лишь касаются главного преступления, вторые совершенно объемлют его; вернее, сами объемлются им» [9, с. 609]. Среди видов прикосновенности автор, следуя закону, выделял укрывательство, недонесение и попустительство.
Определяя сущность укрывательства, А.Ф. Кистяковский писал, что она заключается в заведомом и умышленном содействии преступнику, чтобы он мог укрыться от правосудия и избежать заслуженного наказания, а также в заведомом и умышленном сокрытии следов правонару- шения и вещей, добытых преступным способом. «Таким образом, – указывал автор, – центр виновности его, в субъективном отношении, лежит в сочувствии, с вредом для общества, преступнику, в объективном – в противодействии нормальному ходу уголовного правосудия» [10, с. 610].
Попустительство рассматривалось как «неупотребление известных средств к воспрепятствованию того, что готовится совершиться, или уже совершающегося преступления». Следовательно, оно состоит не в положительном действии, а в отрицательном, или в бездействии [11, с. 614]. Интересно, что одной из разновидностей попустительства А.Ф. Кистяковский считал недонесение о преступлении.
Н.С. Таганцев говорил о четырех разновидностях «типов прикосновенных». По «характеристическим свойствам деятельности» он выделял следующие группы: 1) попустители и недоносители о готовящемся преступном деянии; 2) укрыватели преступника и преступления; 3) воспользовавшиеся плодами преступного деяния; 4) не донесшие о совершившемся преступном деянии [12, с. 626]. Таким образом, к попустительству автор относил недонесение только о готовящемся преступлении. Недонесение о совершенном правонарушении представляло самостоятельную разновидность прикосновенности. Стоит выделить еще одну особенность позиции Н.С. Таганцева: в отдельную группу прикосновенных лиц он выделял тех, кто воспользовался плодами преступной деятельности, зная об их противоправном происхождении. Остальные исследователи причисляли этих людей к общей группе укрывателей.
Недонесение о преступлении трактовалось в качестве специальной формы невмешательства. Во-первых, как незаявление о готовящемся преступлении тому лицу, против которого оно было задумано (в советский и современный периоды такого толкования недонесения не существует). Во-вторых, как несообщение соответствующей информации правительству, точнее, органу власти, компетентному в принятии предупредительных мер или в наказании преступника, если деяние уже совершено (такой подход свойствен уголовно-правовой доктрине советского и современного этапов) [13, с. 627].
Таким образом, к концу XIX в. в российском законодательстве сложился цельный институт прикосновенности к преступлению, а в отечественной уголовно-правовой доктрине – его вполне завершенное теоретическое обоснование, заложившее прочные основы дальнейшего исследования данной категории.
Ссылки:
-
1. См.: Кустова Н.К. Прикосновенность к преступлению в российском уголовном законодательстве: исторические аспекты // Научный вестник Южного федерального округа. 2015. № 2. С. 44–45.
-
2. Псковская судная грамота // Сборник нормативных актов по уголовному праву России X–XX вв. / сост. Ю.И. Бытко, С.Ю. Бытко. Саратов, 2006. С. 65–91.
-
3. См.: Артикул Воинский 1715 г. // Там же.
-
4. См. подробнее: Кустова Н.К. Указ. соч. С. 45–47.
-
5. Шимановский В.М. Преступные деяния по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных и Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Одесса, 1910. С. 591. (Репринтное издание).
-
6. См.: Шимановский В.М. Указ. соч. С. 460.
-
7. Там же.
-
8. См.: Белогрицъ-Котляревский Л.С. Учебникъ русскаго уголовнаго права. Общая и Особенная части. Киевъ ; Петер-бургъ ; Харьковъ, 1903. С. 225–226. (Репринтное издание).
-
9. См.: Кистяковскiй А.Ф. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права съ подробнымъ изложениемъ началъ рус-скаго уголовнаго законодательства. Часть Общая. Второе исправленное и значительно дополненное изданiе. Кiевъ, 1882. С. 609.
-
10. Там же. С. 610.
-
11. Там же. С. 614.
-
12. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая. Т. I. Тула, 2001. С. 626.
-
13. Там же. С. 627.
Список литературы Виды прикосновенности к преступлению: эволюция подходов в законодательстве и уголовно-правовой теории досоветского периода
- Кустова Н.К. Прикосновенность к преступлению в российском уголовном законодательстве: исторические аспекты//Научный вестник Южного федерального округа. 2015. № 2. С. 44-45
- Псковская судная грамота//Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX вв./сост. Ю.И. Бытко, С.Ю. Бытко. Саратов, 2006. С. 65-91
- Кустова Н.К. Указ. соч. С. 45-47
- Шимановский В.М. Преступные деяния по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных и Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Одесса, 1910. С. 591. (Репринтное издание)
- Шимановский В.М. Указ. соч. С. 460
- Белогрицъ-Котляревский Л.С. Учебникъ русскаго уголовнаго права. Общая и Особенная части. Киевъ; Петербургъ; Харьковъ, 1903. С. 225-226
- Кистяковсюй А.Ф. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права съ подробнымъ изложениемъ началъ русскаго уголовнаго законодательства. Часть Общая. Второе исправленное и значительно дополненное изданiе. Киевъ, 1882. С. 609
- Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая. Т. I. Тула, 2001. С. 626