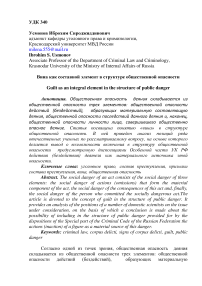Вина как составной элемент в структуре общественной опасности
Автор: Усмонов И.С.
Журнал: НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ/SCIENCES. EDUCATION. ТHE PRESENT.
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Общественная опасность деяния складывается из общественной опасности трех элементов: общественной опасности действий (бездействий), образующих материальную составляющую деяния, общественной опасности последствий данного деяния и, наконец, общественной опасности личности лица, совершившего общественно опасное деяние. Статья посвящена понятию «вина» в структуре общественной опасности. В ней приведен анализ позиций ряда отечественных ученных по рассматриваемому вопросу, на основе которого делается вывод о возможности включения в структуру общественной опасности предусмотренную диспозициями Особенной части УК РФ действия (бездействия) деятеля как материального источника этой опасности.
Короткий адрес: https://sciup.org/14126243
IDR: 14126243
Текст статьи Вина как составной элемент в структуре общественной опасности
Согласно одной из точек зрения, общественная опасность деяния складывается из общественной опасности трех элементов: общественной опасности действий (бездействий), образующих материальную составляющую деяния, общественной опасности последствий данного деяния и, наконец, общественной опасности личности лица, совершившего общественно опасное деяние[1]. Как видно, здесь вина не фигурирует в качестве структурного элемента общественной опасности, что представляется неправильным. При этом сразу оговорим, что речь идет только лишь о структурировании именно общественной опасности как самостоятельной уголовно-правовой категории, а не о структуре преступления, где наличие вины как составного ее элемента сомнений не вызывает.
Однозначным сторонником не считать вину составным элементом в структуре общественной опасности является Т.В. Церетели, который, в частности, полагает, что лицо, которое находится в состоянии невменяемости, и которое, следовательно, не может быть виновным, тем не менее, способно совершить общественно опасное деяние[2]. Указанный автор указывает также на то, что коль скоро понятие умысла на совершение деяния означает, прежде всего, психическое отношение к общественно опасному деянию, то, следовательно, вина не может быть структурным элементом общественной опасности и соответственно вина существует наряду с общественной опасностью, имея самостоятельное значение[3].
Напротив, П.А. Фефелов занимает в отношении вины иную и вполне определенную позицию, считая вину важнейшим элементом общественной опасности[4]. Придерживающийся схожей точки зрения А.И. Рясов, как он сам пишет, «парирует» вышеприведенные аргументы своего оппонента Т.В. Церетели следующими суждениями. Первое из них заключается в том, что общественная опасность представляет собой «социально-политическую характеристику антиобщественного поведения», и такая характеристика не может быть приемлема к действиям лиц, совершающим действия в состоянии невменяемости. Суть второго суждения заключается в том, что «общественная опасность деяния и вина представляют собой взаимосвязанные элементы общественной опасности преступления», при этом само деление поведения лица на объективную сторону (характеризуется параметрами деяния) и субъективную сторону (характеризуется виной, то есть психическим отношением к деянию) «в высшей степени условно», и поэтому общественная опасность посягательства имеет соответственно объективную (деяние) и субъективную (вина) составляющие[5]. Здесь «условность» разделения категории общественной опасности на различные составляющие сомнений не вызывает, о чем свидетельствует разброс мнений по исследуемым вопросам.
Однако, как нам представляется, позиция А.И. Рясова, все же, по нашему мнению, недостаточно убедительна. Речь идет, прежде всего, о том, что, по его мнению, «социально-политическая характеристика» поведения лица неприемлема к действиям, которые совершаются этим лицом в состоянии невменяемости. Однако этот тезис не был развернут, не был конкретизирован, хотя конкретизация здесь необходима. Дело в том, что, социально значимые действия невменяемого лица нельзя приравнивать к его инстинктивным движениям, к движениям животных и, тем более, сравнивать с несчастным случаем (здесь нет уголовно-правовых отношений), поскольку социально значимые действия совершает человек, и эти действия имеют изначальное интеллектуально-волевое наполнение.
Да, применительно к конкретным действиям, образующим объективную сторону преступления, нет оснований говорить о социальной оценке (характеристике) деяния невменяемого лица (мы полагаем, что термин «социально-политическая» оценка, или характеристика, не совсем точен, поскольку «политическая» составляющая применительно к родовому понятию преступления или общественно опасного деянию вряд ли оправданна, но в данном случае это не имеет принципиального значения), но, что очень важно подчеркнуть, - нет оснований говорить о социальной оценке со стороны самого невменяемого лица, поскольку оно «не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики» (ст. 21 УК РФ).
Но общество посредством соответствующих органов такую социальную оценку деяния обязано дать, учитывая, что соответствующие действия совершаются человеком - одним из членов общества, внутри общества и затрагивают интересы (права, свободы) иных членов общества. Еще раз подчеркнем - невменяемое лицо не осознает общественной опасности своих конкретных действий в конкретном пространстве, в конкретное время и при конкретных обстоятельствах, но это не значит, что данное лицо вообще лишено какого-либо сознания, то есть, не может быть абсолютной невменяемости, ибо в противном случае просто-напросто отсутствует субъект деяния (сознание полностью отсутствует только у мертвого человека). Именно поэтому действия (бездействия) невменяемого лица, образующие диспозицию какого-либо преступления, образуют «общественно опасное деяние», то есть деяние, которое имеет социальную оценку (включая правовую, а точнее, уголовно-правовую оценку). И здесь не имеет значения, осознавал деятель опасность своих действий или нет (равным образом это касается лиц, не достигших возраста уголовной ответственности) - он их совершил, они образовали общественно опасное деяние - как справедливо отмечала Н.Ф. Кузнецова, следует исключать влияние личности деятеля на наличие и степень общественной опасности деяния , так как иной подход означал бы нарушение такого важнейшего правового принципа, как равенство граждан перед законом[6].
Другое дело, наличие (отсутствие) вины этого лица: при ее наличии оно привлекается к уголовной ответственности, при отсутствии - не привлекается, если это «ограниченный» субъект (невменяемое лицо либо лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности), то применяется не наказание, а иные меры принуждения, на что ранее обращалось внимание.
Довольно интересную мысль высказывает по этому поводу С.В. Векленко, утверждая, что сложившееся в науке уголовного права деление умысла на различные виды должно быть подчинено задаче наиболее точного определения как степени опасности оцениваемого деяния, так и степени общественной опасности деятеля, а также формированию необходимого комплекса предупредительных мер, направленных на исправление винновного лица и недопущение им совершения преступления в будущем. Такой подход основывается на следующем постулате: чем явственнее проявлялся умысел лица на совершение деяния, тем выше степень опасности совершенного преступления[7]. С этим нельзя не согласиться.
Но если мы ведем речь об общественной опасности только деяния (без уголовно-правовой оценки на предмет того, является или нет данное деяние преступлением), то ее степень не зависит от «явственности проявления умысла», поскольку соответствующие действия (бездействия) могут объективировать лица с разной мерой вины. Собственно, и сам законодатель, указывая в понятии преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ) на то, что «преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние…», предполагает, что деяние может быть совершено и невиновно , а в их рамках вина может иметь различные размеры, и это касается преступления , но не деяния .
При таких обстоятельствах вина не может входить в структуру общественной опасности, поскольку общественная опасность деяния и вина лица, его совершившего, оцениваются самостоятельно. Если предположить, что вина должна входить в структуру общественной опасности, то неизбежно оценка деяния исследуется с точки зрения отношения этого деяния к разряду преступления. Но мы рассматриваем структуру общественной опасности деяния, а не структуру преступления, где, вина, бесспорно, является обязательным структурным элементом.
В этом контексте, как нам представляется, неточность позиции А.И. Рясова заключается в том, что этот автор, как видно из вышеприведенной его цитаты, как раз неоправданно отождествляет общественную опасность деяния и общественную опасность преступления. И вот, этот случай показывает, что такое, казалось бы, незначительное смешение понятий приводит к искаженной оценке данного явления (общественная опасность преступления, если принять этот термин как корректный, значительно более сложная категория, включающая в себя, помимо общественной опасности деяния, также общественную опасность совершившего его лица и, для определенной категории преступлений, общественную опасность наступивших последствий, где таковые составляют квалифицирующий признак преступления, например, указанные в ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Аналогичным образом можно говорить о правомерности включения в структуру общественной опасности деяния такого элемента, как личность деятеля. По мнению Г. Моисеенко, данный элемент (личность преступника) должен быть составным элементом в структуре общественной опасности деяния, включая такие характеризующие личность признаки, как повторность совершения общественно опасного деяния, состояние сильного душевного волнения, наличие или отсутствие соответствующих мотивов и целей совершения деяния и другие признаки личностного характера[8]. С такой позицией мы не можем согласиться, поскольку взятые, сами по себе, личностные параметры (возраст, пол, социальное положение, здоровье и т.д.) не могут представлять какой-либо общественной опасности - они могут лишь характеризовать меру этой опасности во взаимосвязи с совершенными действиями (бездействиями), образующими объективную сторону деяния, предусмотренного в Особенной части уголовного закона. И в этом вопросе мы солидарны с М.Н. Коновальчуком, полагающим, что личность виновного не может входить в понятие общественной опасности деяния[9].
Здесь также нам приходится затрагивать вопрос терминологии. Дело в том, что, в подобного рода ситуациях, многие исследователи смешивают разные понятия. Об одном случае мы упомянули (смешение понятий «общественная опасность деяния» и «общественная опасность преступления »). Другое часто встречаемое смешение касается терминов «общественная опасность деяния » и « общественно опасное деяние ». При кажущейся тождественности сравниваемых понятий - это не тождественные понятия. Общественная опасность, как мы указывали выше, характеризуется как «состояние», в то время как деяние (соответственно и структура общественного опасного деяния, которая в уголовно-правовой науке рассматривается обычно из трех элементов - действие (бездействие), общественно опасные последствия и личность преступника[10]) определяется, прежде всего, действиями (бездействиями) деятеля[11], и здесь не может быть равенства. И Г. Моисеенко, как видно из его работы, фактически описывает не «общественную опасность деяния», а «общественно опасное деяние».
Предмет нашего исследования - «общественная опасность деяния», которая, разумеется, также непосредственно связывается с действиями (бездействиями) деятеля, но лишь в том контексте, что эти действия (бездействия) являются материальным источником общественной опасности. И если такие действия (бездействия) нарушают фундаментальные общественные ценности и, как мы отмечали ранее, являются для общества в этом плане чрезвычайным событием, то есть если они охватываются диспозициями статей Особенной части УК РФ, то такие действия (бездействия) образуют общественно опасное деяние.
Итак, в структуру общественной опасности мы полагаем необходимым включить предусмотренные диспозициями Особенной части УК РФ действия (бездействия) деятеля как материальный источник этой опасности . Данное уточнение необходимо сделать потому, что те же действия (бездействия) ряд авторов включает в структуру общественно опасного деяния как его объективное выражение вовне. Словосочетание «действие (бездействие)» в литературе нередко заменяется термином «посягательство», что, на наш взгляд, вполне допустимо, поскольку этот термин явственно показывает негативный характер человеческого поведения; такой же характер в рассматриваемом контексте имеет и термин «действие (бездействие)».