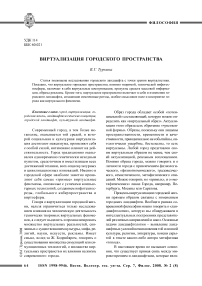Виртуализация городского пространства
Автор: Туркина Виктория Григорьевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию городского ландшафта c точки зрения виртуалистики. Показано, что виртуальное городское пространство, помимо творимой, технической инфотехносферы, включает в себя виртуальные коммуникации, продукты средств массовой информации, образы рекламы. Кроме того, виртуальное пространство включает в себя и изменения городского ландшафта, создающие изменчивые ритмы, особое смысловое поле и восприятие города как виртуального феномена.
Город, виртуализация, городская жизнь, ландшафтологические концепции, городской ландшафт, культурный ландшафт
Короткий адрес: https://sciup.org/14974257
IDR: 14974257 | УДК: 114
Текст научной статьи Виртуализация городского пространства
Современный город, а тем более мегаполис, оказывается той средой, в которой социальная и культурная виртуализация достигают максимума, проявляют себя с особой силой, интенсивно влияют на действительность. Город традиционно оказывался одновременно генетически исходным пунктом, средоточием и вместилищем всех достижений техники, всех социокультурных и цивилизационных инноваций. Именно в городской сфере наиболее заметно проявляют себя самые «зримые» виртуальные феномены, связанные с успехами компьютерных технологий, созданием инфотехносреды, глобального киберпространства и виртосферы.
Говоря о виртуализации городской жизни, нельзя ограничиться только исследованием влияния на человеческую деятельность технически творимых виртуальных феноменов, а следует выделить и проанализировать множество виртуальных реальностей, связанных с существованием культуры, мифа, религий, науки, искусств, рекламы. Имеет смысл, вслед за Ж. Бодрийяром, говорить о существовании множества симуляций или симуляционных технологий, о множестве виртуальных пространств и их влиянии на жизнь современного города.
Образ города обладает особой «потенциальной» составляющей, которую можно определить как «виртуальный образ». Актуализация этого образа есть обретение «чувственной формы». Образы, поскольку они лишены пространственности, временности и качественности, принципиально не событийны, онтологически ущербны, бестелесны, то есть виртуальны. Любой город представлен своим виртуальным образом не менее, чем своей актуализацией, реальным воплощением. Помимо образа города, можно говорить и о личности города с привлечением физиологического, «физиогномического», градоведчес-кого, семиотического, метафизического описаний. Можно говорить и о «зримых», и о «метафизических» ликах Города, например, Петербурга, Москвы или Саратова.
Процессы виртуализации городской жизни прямым образом связаны с изменением городских ландшафтов. Вообще в рамках современной философии можно говорить о «лан-дшафтологии», которую мы обнаруживаем в интеллектуальных построениях представителей различных направлений и школ. Основные задачи ландшафтологии – выявление ландшафтных условий возникновения той или иной культуры, религии, литературы, поиски скрытой в тексте какого-либо автора метафизика «топоса».
В настоящее время не вызывает сомнения, что существует прямая связь между мировоззрением и ландшафтами, которые явля- ются средой обитания того или иного народа. Одним из самых выдающихся ландшафтоло-гов ХХ в., безусловно, можно признать П. Флоренского. Интерпретация ландшафтов в творчестве Флоренского представляет собой своеобразную «конкретно-метафизическую геологию», имеющую дело и с реальными ландшафтами, и с их «ноуменальными» измерениями – в том смысле, который придает терминам «феномен» и «ноумен» сам Флоренский. Фундаментальные для мыслителя реальности обретают воплощение во вполне реальном ландшафте, а отрыв от них – в годах скитания и смерть. «Геология», таким образом, обретает экзистенциальное измерение.
Более поздние ландшафтологические концепции, начиная, по крайней мере, со шпен-глеровского «Заката Европы», обозначают дальнейшие горизонты философского осмысления мира с точки зрения его природы. Эстетика ландшафта предполагает сюжеты этики, символики, логики, семиотики, герменевтики ландшафта. Видение культуры в ландшафте не полно без ландшафтно-ориентированных субкультур. Последние, как и любые субкультуры, достаточно многочисленны и разноориентированны. Вследствие этого ландшафт, объединяя, одновременно выступает и как культурный дифференциатор. Ландшафт становится феноменом культуры по мере накопления в нем совокупности неэнтропийных черт – признаков освоенности, структурированности, осмысленности. Накопление признаков освоенности происходит постепенно, но в конце концов возникает такой момент, когда сумма изменений, произведенных человеком в ландшафте, далеко превышает утилитарные нужды «полезности» и удобства: созданный избыток энергии и информации переходит в новое качество, создавая метафизику ландшафта, которая впоследствии приобретает самодовлеющее непреходящее значение и задает дальнейший вектор развития рукотворной природы. Метафизика ландшафта и есть его «дух», «образ», состоящий из множества символов, запечатленных в искусстве, живописи, народном фольклоре.
Метафизичность городского ландшафта порождает целый ряд кодов и символов. Если рукотворный ландшафт есть произведение культуры, а культура, как известно, создает различные коды, в том числе коды предметно-пространственной среды, то, следовательно, она порождает и особый «ландшафтный» код. Таким образом, ландшафт оказывается сущностно связанным с полем культурных смыслов и кодов, рождает особое виртуальное пространство. Любой ландшафт имеет виртуальную составляющую, а ландшафт современного города – особенно заметную и ощущаемую.
Изначально город как специфическая форма освоения социогеографического пространства воспринимался как часть природных ансамблей, а городской ландшафт, хотя и отделял природное от рукотворного, от Постава, был органично вписан в естественную среду, в окружающую его природу. Городские пейзажи были продолжениями природных пейзажей, направления улиц задавались линиями водоемов, природного рельефа, естественными границами города. В основании первой, механистической, парадигмы города лежала идея сквозной иерархической регуляции ландшафта, которая пронизывает все сферы жизни человека и общества. Социальная организация ландшафтом города структурировалась посредством определенных доминант – специальных и специфических мест, фиксирующих основные элементы жизненного пространства, а их композиция складывалась из той смысловой и эмоциональной нагрузки, которой они номинированы.
Культурный ландшафт как среда обитания являлся социально обозначенным и сконструированным посредством занесения социальных реальностей в физический мир. Таким образом, культурный ландшафт выступал способом социальной организации и структурирования пространства обитания одновременно. В этом аспекте он представлял собой социальное пространство, выражающее формы существования различных пространственновременных отношений – «хронотопов», в рамках которых реализовались совершенно различные модели освоения. Хронотопы разных эпох в разных странах обнаруживают известную параллель: силовой подход к социуму оборачивается силовым подходом к природе – освоение пространства выражается в его покорении, захвате, «застолблении». При этом возникает столь характерная классическая организация пространства с сакральным «ухоженным» центром и эксплуатируемой, разваленной периферией. Традиционно ландшафты больших городов определялись существованием продуманной и веками выверенной структуры, строгим порядком, увеличивающимся с возрастом города.
В конце XX в. топологическая структура больших городов существенно изменилась. На фоне стремительной динамики города, его бурной экспансии вширь и ввысь происходило разрушение установленного порядка городской жизни. Город теперь не вписан в природный ансамбль и очень часто противоречит ему, природа более не вбирает в себя огромный город, который просто «не помещается» в ней, а отступает и даже исчезает под его натиском. Рациональная организация городского пространства, позволяющая «характеризовать индивида как индивида и упорядочивать данную множественность» [2, с. 2], отступает под натиском соображений прагматизма: строят не там, где должно, а там, где есть место, архитектурные объекты больше не привязываются к природному ландшафту и оказываются в эстетическом противоречии с уже существующими. Пейзаж как фиксированная инфраструктура уходит в прошлое, становится постоянно меняющимся, мобильным, с преобладанием в нем демонтируемых структур. В результате исчезают многовековые симметрии и порядки, возникают хаотические образования и сложные сети. Упорядоченное «пересеченное пространство» уступает место беспорядочному и гладкому [1].
В результате границы города становятся негладкими, условными, строгая структура разрушается, заменяется постоянно меняющейся, очертания города, его периметр из правильной фигуры превращаются в неправильную. В мегаполисах, как это произошло, например, в Нью-Йорке, единственный общий центр заменяется несколькими «фокусами», в подобных городах отсутствуют привилегированные места власти и закона. Возникает образ города-лабиринта, города-муравейника. Беспорядок становится таким значительным, что в некоторых латиноамериканских городах отсутствуют даже номера домов. Многоступенчатая перспектива, отсутствие обязательного горизонта, при- вычного преобладания горизонталей меняют привычное видение города.
Современный город позволяет себе и нетрадиционные одежды, яркие краски, смешение стилей и цветов, украшая себя разноликой рекламой, временными постройками и многочисленными транспортными сетями. Следует отметить, что наружная реклама в городе стала очень популярной. По степени воздействия на потребителя она уступает только Интернет-рекламе, привлекает большое количество зрителей и по эффективности сравнима с телевидением. Реклама интегрируется в архитектуру улиц и площадей без определенных законов, как правило, хаотично. Крайне редко плакат соответствует параметрам цвета, формы, стиля окружающего ландшафта. Свойство рекламных конструкций – быть не только средством убеждения, но и архитектурными единицами – часто игнорируется по разным причинам. Вот почему Париж – город-образ, город-легенда – категорически не приемлет наружной рекламы как явления, оказывающего негативное воздействие на восприятие его веками сложившегося облика. Не позволяют рекламного вторжения и в старинных городах Германии и других стран Европы. Здесь о дополнительных архитектурных единицах не может идти и речи – это инородные тела, и какова бы ни была их эстетическая ценность, она не дотянется до уровня исторического великолепия, приносящего достаточно средств в городскую казну, чтобы позволить себе отказ от наружной рекламы.
Город, постоянно «переодевающийся» в рекламные плакаты, быстро меняющий свой архитектурный образ, расширяющий свои границы и вбирающий в себя более мелкие города, со своими «лицами» и стилями, оказывается изменчивым, преходящим, меняющим облик и неопределенным. Происходит становление и экспансия ризоматической структуры, нечеткой и неопределенной, постоянно меняющейся, мобильной, динамичной, иногда мгновенной.
Все это обусловливает инфляцию общепринятых норм, регулирующих процесс видения, понимания и оценки действительности. Стремительно несущаяся действительность подобна мельканию кадров кинофильма, и житель большого города вынужден проделы-
В.Г. Туркина. Виртуализация городского пространства
вать значительную работу по сборке целостного образа из различных деталей. Это иная реальность, отличная от существующей действительности, выхваченная из нее фрагментами. Крушение прежних границ осмысленного и неосмысленного, очевидного и неочевидного обостряет фантазию, а отсутствие общего, например, идеологического или зрительного горизонта, повышает значимость контекста. Вещи и события уже не оцениваются общим масштабом; однозначные способы видения и понимания уступают место разнообразию моды и вкуса. Жесткие моральные оценки, внедренные в научный, художественный и политический дискурсы, преодолеваются постмодернистским эстетизмом.
Город «разгружает» мысль и перегружает зрение: становится меньше мест интеллектуального общения и больше витрин, рекламы, зрелищ. Как городская жизнь таит массу неожиданностей, вызывает столкновение разных стилей поведения и жизни, так и сознание индивида формируется на отношениях контраста, воспринимает экзотическое, необычное, взрывающее привычные представления. Поле видимого и понимаемого, прежде не вызывавшее сомнений в своей достоверности, превращается в гигантскую кулису, за которой может скрываться все что угодно. Релятивизм, гетерогенность, случайность отныне становятся характеристиками стиля мышления современного горожанина. Они возникают на уровне повседневности и затрагивают не только интеллект, но и телесно-чувственные структуры.
В пространстве города-лабиринта, города-ловушки городская жизнь превращается в игру, в условность, а привносящие ее новые структуры повседневности обладают не толь- ко достоинствами широты, плюрализма, признания разнородности, но и недостатками релятивизма, неупорядоченности, несоизмеримости и непонимания. Если ранее угроза деперсонализации исходила от репрессивного порядка, то теперь исходит от бессубстанци-альности бытия. Если прежде уверенность шла от почвы к идеям и ценностям, то пустота, вызванная ростом гетерогенности пространства города, лишает человека онтологической укорененности.
Динамичное, быстрое изменение современного городского ландшафта, его хаотичность, отсутствие строгой иерархии, текучесть, мгновенность, неопределенность – несомненные признаки его значительной виртуализации. Виртуализация современного городского ландшафта напрямую связана с хаотичностью застройки, с отсутствием единого городского архитектурного ансамбля, с созданием нетрадиционных, постмодернистских объектов архитектуры, с экспансией транспортных сетей, с быстрой сменой продуктов и образов городской рекламы и достигает максимума в мегаполисах.
Таким образом, современный город приобретает мощную виртуальную составляющую, становится виртуальным не менее, чем реальным, и его виртуальная «ипостась» оказывает существенное влияние на горожанина.
Список литературы Виртуализация городского пространства
- Делез, Ж. Капитализм и шизофрения/Ж. Делез, Ф. Гваттари. М.: ИНИОН, 1990. 107 с.
- Фуко, М. Надзирать и наказывать/М. Фуко. М.: Ad Marginem, 1999. 480 с.