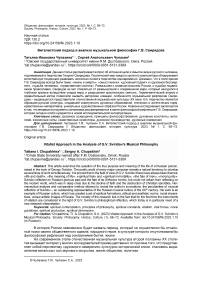Виталистский подход в анализе музыкальной философии Г.В. Свиридова
Автор: Чупахина Т.И., Чупахин С.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная статья рассматривает вопрос об истинной цели и смысле жизни русского человека, поднимаемый в творчестве Георгия Свиридова. Поэтический мир каждого крупного композитора обнаруживает естественную тенденцию развивать несколько линий в творчестве одновременно. Доказано, что в поле зрения Г.В. Свиридова всегда были темы: «жизнь и смерть», «смысл жизни», «духовный подвиг» и «духовное бессмертие», «судьба человека», «нравственная чистота». Размышляя о славном прошлом России, о судьбах подвижников православия, Свиридов не мог отказаться от размышлений о современном мире, который находился в глубоком кризисе вследствие упадка веры и разрушения христианских святынь. Герменевтический анализ и сравнительный метод позволили выявить авторские новации, особенности музыкальной рефлексии Свиридова - выдающегося представителя отечественной музыкальной культуры ХХ века. Его творчество является образцом русской культуры, создавшей совокупность духовных образований, этических и эстетических норм, нравственных императивов, уникальных художественных образов России. Новизна исследования заключается в том, что впервые инструменты витализма рассматриваются в свете философской рефлексии Г.В. Свиридова, которая сегодня особо нуждается в новой исследовательской интерпретации.
Духовное созерцание, принципы философствования, духовные константы, витализм, жизненные силы, нравственные ориентиры, духовное производство, духовные измерения
Короткий адрес: https://sciup.org/149141955
IDR: 149141955 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.1.10
Текст научной статьи Виталистский подход в анализе музыкальной философии Г.В. Свиридова
1,2Omsk State University named after F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia 1tat.chupaxina@yandex.ru0,
В истории России невозможно будет назвать период, который не осуществлял бы отчаянный поиск своего общественного идеала, народного героя, в культуре которого отсутствовала бы философская рефлексия над основаниями бытия, жизни.
На современном этапе отечественная музыкальная культура второй половины ХХ столетия вызывает интерес у многих исследователей преимущественно по причине того, что представляет собой перспективу «духовного измерения» культурно-исторической эпохи, становясь выразителем витальных сил звукового искусства, жизни общества, политики.
В философских и музыкальных произведениях ХХ века можно часто столкнуться со словосочетаниями: «жизненные силы», «жизненная символика в искусстве», «виталистские идеи», «духовные константы». «Проблема жизненного потенциала музыкальной культуры становится одной из ведущих как в европейской, так и в отечественной философско-социологической мысли ХХ века, когда произошла смена парадигм в творчестве, культурологический сдвиг, приведший к переходу от универсализма и прогрессизма как базовых паттернов культурного развития, к партикуляризму и циклизму, от представлений о бесконечности и непрерывности развития – к идее конечности всякой культуры, исчерпаемости всякой тенденции, к идее смертности и временности всякого культурно-исторического образования» (Бердяев, 1994: 51).
Многие отечественные музыковеды считают, что музыка Г. Свиридова – патриарха советского музыкального искусства XX в. – стала настоящей классикой, с ее базовыми ценностными установками, экзистенциональными контрапунктами, когнитивными предпочтениями (Венчакова, 2018; Ки-наш, Жиров, 2015). В его музыкальном наследии получает дальнейшее развитие такая особенность русского мироощущения, как устремление к трансцендентному. Его восточное сознание, в отличие от западного (экстравертивного), преимущественно интровертивное, направленно на постижение собственных имманентных глубин. Свиридов особенно отчетливо представлял себе, что от России зависит будущее всего человечества, переход на новый уровень жизненных сил человеческой культуры – по причине ее географического положения и в силу духовности ее культуры.
Идеи «жизнетворчества», проявленные в творческих исканиях Г.В. Свиридова, создали поэтический мир с особой ролью художника-гражданина своей страны. Рассматривая произведения композитора как продукт духовной культуры ХХ века, как итог эволюции социогуманитарного знания, познавая и раскрывая глубинные, сущностные смыслы бытия, мы естественно включаемся в культурологичность анализа эволюции жизненных сил общества и человека.
Одна из доминантных тем в творчестве Свиридова – это образ России, образ Родины. В 1960-х годах композитор часто любил повторять в своем близком кругу: «Для меня Россия – это страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа» (Венчакова, 2018: 43).
В свете вышесказанного именно жизненный путь Свиридова наиболее зримо обнаруживает самую важную черту менталитета русского человека – наличие в ней духовно-софийной вертикали, стремления к нравственному самосовершенствованию (жизнеустроению).
Подчеркивая самобытность музыкальной философии художника, нам чаще всего приходится называть ее религиозной, поскольку в России под религиозным опытом, прежде всего, понимается обращенность к «миру небесному», «миру горнему», восприятие мистического опыта, вера в высшие силы. Поэтому музыкальное наследие Г. Свиридова нам следует рассматривать как некую разновидность духовного производства и духовного опыта, которая имеет свою заданную жизненную программу действий, свой вектор развития, предназначение, эстетическую направленность, ибо она является подтверждением высокого уровня духовности художника.
Основополагающим принципом философствования композитора является «разум сердца», духовное созерцание. Рассуждая о творчестве Свиридова, следует вспомнить слова Н.О. Лосского, который характеризует подобных русских людей как людей, принадлежащих к особому типу мессианского, иоанновского человека (Лосский, 1957). В произведениях художника глубоко укоренена идея «созерцающего сердца», русская идея.
России надлежит, по словам И.А. Ильина, нести миру идею, «чтить и охранять свободу веры своей и чужой» (Ильин, 2007).
В первом хоровом цикле «Неизреченное чудо» Г. Свиридов использует новые свободные способы музыкального применения канонических первоисточников. Сам композитор считает канонический текст образцом высочайшей духовной поэзии1. Вместе с тем он свободно заменяет традиционные богослужебные тексты из «православного обихода» на светские – из «литургической поэзии».
В духовной музыке Свиридова мы находим преобладание чувственно-интуитивных форм восприятия и способов постижения мира над логическим (примером могут служить музыкальные иллюстрации: хоровой цикл «Духовные песнопения и молитвы»; «Три стихиры для мужского хора»; хоровое сочинение «Из Ветхого Завета»; произведение для хора «Странное Рождество» (текст данного опуса с незначительными изменениями взят из Акафиста Пресвятой Богородице (кондак 8)).
Сборник «Песнопения и молитвы», по свидетельству биографов Свиридова, для нас является духовным, творческим завещанием (Кинаш, 2014). В этом сочинении много сакрального смысла. Подобно молитве в храме, эта музыка повествует нам о самом важном, касающемся человека и Бога. «Поистине, вопрос о Боге – человеческий вопрос, и. быть может, тайна Божья лучше раскрывается через тайну человеческую, чем через природное обращение к Богу вне человека» (Бердяев, 2006: 17).
Данное литургическое произведение продолжает тему памяти, сохранения вечных, духовных традиций и нравственных богатств России. Произведение глубоко религиозное, в нем ясно звучит христианская мысль о гармонии мира. При написании «Песнопений и молитв» композитор поставил перед собой задачу создать произведение светское по форме, но православное по содержанию, сохраняя традиции литургии. Все номера хорового цикла написаны на подлинные богослужебные тексты, взятые из Псалтири, акафистов, молебнов. Известно, что при написании церковных песнопений композитор должен использовать литургический текст без каких-либо изменений, нововведений, согласно канонам, принятым в православии. Но здесь автор решил творческую задачу иначе – он значительно переработал их. Например, изменены были отдельные слоги в словах, произошла замена окончаний. Это было связано с тем, что для композитора главным критерием служило «звучание распетого слова», адаптация звучания ряда слов на современный лад. И в этом, как мы видим, нет ни вольности, ни небрежения к церковным канонам. Это всего лишь особый, свойственный только Свиридову, композиционный принцип письма, в котором очевидно присутствие органического единства слова и музыки.
Отсутствие духовной опоры, согласно философским взглядам художника, которую дает человеку вера в Бога, неизбежно приводит к кризису общества и каждого из нас. Поэтому тема обращения к Богу становится основополагающей в творчестве композитора. «Постижение этого смысла в указанном аспекте является важнейшей задачей философского обоснования творчества Г. Свиридова, – отмечает С.В. Венчакова. – Композитор в своем творчестве нам подтверждает, что духовная музыка «является наиболее высокой формой искусства, ибо она включает в себя эпическое, народное и индивидуальное (личность)» (Венчакова, 2018: 128).
Путь к высшей идее выстраивается у Г.В. Свиридова подобно тому, как это объясняет нам И.А. Ильин: «Нам предстоит вырастить из свободного сердечного созерцания свою, особую, новую русскую культуру воли, мысли и организации. Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все, что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая – за ней стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказываться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели... И все это выговаривается русской идеей» (Ильин, 2007: 323).
Практически все тексты свиридовских духовных сочинений подвергнуты существенным преобразованиям. Поскольку «его духовная музыка не создавалась и не предназначалась только для исполнения в церкви на богослужениях, Свиридов всегда свободно подходил к каноническим церковным текстам» (Кинаш, 2014). По глубокому убеждению композитора, процесс познания мира связан не с Логом, а с Софией – это философская традиция, сложившаяся в России1. Ибо восприятие Веры у русского человека – это основа знания жизни. В работе «Сущность и своеобразие русской культуры» И.А. Ильин подтверждает эту мысль: «Русская культура построена на чувстве и сердце, на созерцании, на свободе совести и свободе молитвы (Ильин, 2007: 257).
Назовем музыкальную философию Свиридова «русской религиозной философией», поскольку именно в ее религиозности и заключена национальная самобытность художника. Религиозность русского народа подчеркивалась и Ф.М. Достоевским, который, по словам Е.Н. Холондович, отмечал, что она основывается на его «внутреннем стремлении к добру, свету, имманентно заложенном в русской душе и находящем духовное подкрепление в православии; потребности в страдании; идеализме; жажде правды и справедливости; патриотизме; самоотверженности и силе духа в борьбе с врагами Отечества; простодушии и честности; сочувствии к угнетенному; веротерпимости; восприимчивости к культуре других народов; милосердии» (Холондович, 2015: 465).
Известно, что «русская философия, безусловно, опирается на метафизические основания, и стержневым структурным элементом жизненных сил русской философии становится национальный дух» (Бердяев, 1994: 133). Русский дух в музыке Свиридова выражается в его национальном миросозерцании и самопознании. В характере музыки заметны интенции, исходящие из глубин русской земли праотцов. Мы наблюдаем очевидные вещи – полную совмещенность «духовности» и «религиозности». Ибо дух отечественного композитора соборен. Он является основной силой, собирающей русский мир, сообщающей ему некий характер органического целого.
В свете такого понимания творчества представляется закономерным и то, что русская природа у Свиридова оказывается способной на тончайшие движения души, какой она обнаруживает себя, например, в его «Курских песнях» на народные стихи, т.е. тексты песен были заимствованы из фольклора, мелодический же материал создан автором. Он считал идеалом в звучащей философии органичное сочетание слова (логос) и музыки (мелос), какое мы находим в лучших образцах народнопесенной культуры – песне, где воочию наблюдается их тесный сплав и нерушимое единство.
Именно песни Курской земли, хранившиеся в памяти народной, передававшиеся поколениями из уст в уста, стали для автора особенно ценными, духовным ориентиром. «Обратившись к сборнику песен Курской области, составленному фольклористом Рудневой, в котором были опубликованы исконные образцы фольклора малой родины Свиридова – лирические протяжные, покосные, свадебные, бурлацкие, хороводные, композитор отобрал семь различных песен для семи небольших частей кантаты, объединенных общей музыкально-поэтической идеей. Это “Зеленый дубок” (девичья лирическая), “Ты воспой, воспой, жавороночек” (“тягальная” – мужская протяжная), “В городе звоны звонют” (свадебная), “Ой, горе, горе лебедоньку моему” (лирическая), “Купил Ванька себе косу” (покосная, лирическая), “Соловей мой смутный” (лирическая, бурлацкая) и “За речкою, за быстрою” (хороводная, так называемая тапочная, с особенным плясовым движением; курский вариант общеизвестной “Веселой беседушки”)»1.
Ощущение непрерывной связи времен, острое чувство красоты, направляющей человеческую жизнь, вызывают у нас глубокую симпатию и сопричастность к героям этих песен. Образ родной земли, дома естественен для композитора, он возник из детства, оставаясь воплощением жизненного идеала, духовной константой, символом веры.
По словам И.А. Ильина, «русскому человеку присуща потребность увидеть любимое вживе и въяве и потом выразить увиденное – поступком, песней, рисунком или словом. Вот почему в основе всей русской культуры лежит живая очевидность сердца, а русское искусство всегда было чувственным изобретением нечувственно узренных обстояний» (Ильин, 1992).
Важнейшей чертой прежде всего музыкальной философии Г. Свиридова является антропологизм как глубочайший интерес к внутренней жизни русского человека (музыкальные иллюстрации: камерно-вокальная поэма «Отчалившая Русь»; кантата «Деревянная Русь» на стихи С. Есенина; хоровой цикл «Декабристы» на слова А. Пушкина; оратории «Поэма памяти С. Есенина», «Патетическая» на слова В. Маяковского; «Пять песен о России» на слова А. Блока; хоровая поэма «Ладога»; концерт для хора a capella «Песни» на слова А. Прокофьева; вокальная поэма «Петербург»; «Весенняя кантата» для смешанного хора и симфонического оркестра; хоровой концерт «Пушкинский венок»; сюита «Время вперед!»; оркестровый цикл «Метель»; вокальный цикл «У меня отец – крестьянин»; кантата «Лапотный мужик»).
Главной, стержневой темой этих произведений композитора является формирование человеческого начала в человеке, душевной чистоты, духовно-нравственных устоев для организации и устроения социального пространства. Поэтому в рамках аксиологического комментария нам следует сказать, что наследие композитора занимает в музыкальном русском мире существенное положение. Л.А. Кинаш, М.С. Жиров отмечают: «Музыка Свиридова, разумеется, из России: но не столько России умозрительной, философствующей, сколько из России словущей. Музыкант и композитор огромного национально-самобытного масштаба и дарования, Свиридов развивает в себе такое философско-эмоциональное видение мира, которое позволяет ему сделать слушателя соучастником ясного речевого действия, вовлекает его в переживание ясности подлинной речи, которая не затемняет какой бы то ни было ум, а подбадривает и зовет к размышлению и собственному высказыванию» (Кинаш, Жиров, 2015: 40).
В ходе интерпретативного анализа монументальных произведений композитора установлено, что национальный дух в его музыке выступает не только основанием, но и метафизической основой свиридовской философии. В концептуализации жизненных исканий художника в контексте идей «русского мира» национальные корни и традиции, присутствующие в его музыке, являются для нас нравственным ориентиром в понимании диалектических оснований и процессов, создающих условия для персонификации национального духа в творческом осмыслении деятельности композитора.
Подобная точка зрения перекликается с мнением отечественного философа экзистенци-ально-персоналистического направления Н.А. Бердяева, который утверждал, что человек неустраним из философии. «Человек, – подчеркивал он, – есть загадка не в качестве организма или социального существа, а именно как личность... Иными словами личность – это микрокосм, универсум в индивидуально неповторимой форме, соединение универсального и индивидуального... Духовная основа человека не зависит от природы и общества, и не определяется ими» (Бердяев, 1994: 241–242). Согласно его «парадоксальной этике» можно утверждать, что вся философия – это и есть «учение о человеке», «учение целостного человека». По сути, для Г. Свиридова, как и для Н. Бердяева, первостепенным является сам человек как центр мироздания, центр бытия. «Человек – это солнце, вокруг которого всё вращается. В человеке – загадка мировой жизни. Решить вопрос о человеке – значит решить вопрос о Боге (Бердяев, 2006: 29).
Г.В. Свиридов рассуждает о жизненно важном для творца – его призвании «по мере своих сил служить раскрытию Истины Мира, которая может быть заключена в синтезе Слова и Музыки. На своих волнах (бессознательного) она (музыка) несет Слово и распространяет его сокровенный смысл. Слово же несет в себе мысль о Мире (оно предназначено для выражения Мысли). Музыка же несет Чувство, Ощущение, Душу этого мира. Вместе они выражают (могут выразить) Истину мира»2.
Аксиологический подход, реализуемый в данном исследовании, позволил нам высветить и определить совокупность духовных образований, ту нравственную максиму, которая распространяется на все человечество и которой следовал сам Свиридов. В поисках аутентичности, доподлинно национального в отечественной музыкальной культуре советского периода композитор стремится выявить абсолютную истину для всех носителей этой культуры. Сущностные черты уклада души художника выражаются категориями: Святая Земля, Святая Русь, душа – вера – духовность, долг – служение – жертвенность. Грани души высвечиваются и проявляются в творчестве особой «державной мерой», призывающей человека к созиданию, труду, подвигу, служению, а духовная ипостась зовет человека к выполнению долга до жертвенности.
Итак, мы подошли к выводу: на протяжении творческого пути в искусстве композитор своими философско-художественными установками, экзистенциональным опытом был нацелен на поиск Истины Мира, сердечного соборного сознания между людьми и целым русским народом. Именно эта способность «мудрой и теплой» соборной философии Г.В. Свиридова говорить «сердцем», умение сострадать ближнему смогут продуктивно выстроить межкультурные диалоги в будущем, показать во всей полноте любящее и всеобъемлющее сердце России.
Список литературы Виталистский подход в анализе музыкальной философии Г.В. Свиридова
- Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2006. 254 с.
- Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. 480 с.
- Венчакова С.В. Творчество Г.В. Свиридова в контексте русской музыкальной культуры. М., 2018. 290 с.
- Ильин И.А. Русская идея. М., 1992. 49б с.
- Ильин И.А. Сущность и своеобразие русской культуры. М., 2007. 462 с.
- Кинаш Л.А. Философия музыкально-поэтического языка Г.В. Свиридова // Научные ведомости Белгородского государственного национального исследовательского университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2014. № 9 (180). С. 129-135.
- Кинаш Л.А., Жиров М.С. Музыкальное мышление Г.В. Свиридова: опыт аксиологического комментария // Научный результат. Серия: Социальные и гуманитарные исследования. 2015. Т. 1, № 1 (3). С. 37-44.
- Лосский Н.О. Характер русского народа. Франкфурд-на-Майне, 1957. 152 с.
- Холондович Е.Н. Ф.М. Достоевский о национальном русском характере // Историогенез и современное состояние русского менталитета. М., 2015. С. 321-330.