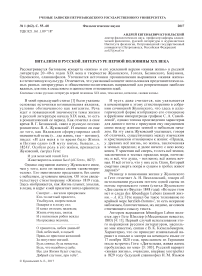Витализм в русской литературе первой половины XIX века
Автор: Кунильский Андрей Евгеньевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (162), 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается бытование концепта «жизнь» и его усиленной версии «живая жизнь» в русской литературе 20-40-х годов XIX века в творчестве Жуковского, Гоголя, Белинского, Бакунина, Одоевского, славянофилов. Уточняются источники проникновения выражения «живая жизнь» в отечественную культуру. Отмечается, что указанный концепт использовался представителями самых разных литературных и общественно-политических направлений для репрезентации наиболее важных для них в смысловом и ценностном отношении идей.
Русская литература первой половины xix века, тема жизни, витализм, "живая жизнь"
Короткий адрес: https://sciup.org/14751146
IDR: 14751146 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Витализм в русской литературе первой половины XIX века
В моей предыдущей статье [1] были указаны основные источники возникновения явления, условно обозначенного как витализм. Речь идет о повышенной значимости темы жизни в русской литературе начала XIX века, то есть в романтический ее период. Как отметил в свое время В. Г. Белинский, «ввел в русскую поэзию романтизм» В. А. Жуковский1. И именно он еще до того, как Надеждин сформулировал свой знаменитый тезис («…где жизнь, там – поэзия»), писал: «И для меня в то время было Жизнь и Поэзия одно» («Я музу юную, бывало…», 1824)2. Особую роль в его жизни, признается Жуковский, сыграл Гете:
И для меня мой гений Гете
Животворитель жизни был! («К Гете», 1827)3.
Однако ощущение жизни у Жуковского иное, чем у того, кого он назвал своим «животвори-телем». Его невозможно представить без связи с небесным, духовным началом. Об этом свидетельствует стихотворение «Жизнь» 1819 года. Здесь изображается, как Жизнь плывет, унылая, в лодке, и вдруг к ней прилетает ангел-хранитель:
Смотрит… ангелом прекрасным Кто-то светлый прилетел, Улыбнулся, взором ясным Подарил и в лодку сел;
И запел он песнь надежды; Жизнь очнулась, ожила И с волненьем робки вежды На красавца подняла.
О хранитель, небом данный! Пой, небесный, и ладьей Правь ко пристани желанной За попутною звездой.
Будь сиянье, будь ненастье;
Будь, что надобно судьбе;
Все для Жизни будет счастье, Добрый спутник, при тебе4.
И пусть даже считается, как указывается в комментарии к этому стихотворению в собрании сочинений Жуковского, что здесь в аллегорической форме изображено его отношение к фрейлине императрицы графине С. А. Самой-ловой5, однако топика произведения характерна для данного поэта с присущим ему ощущением связи между жизнью земной и небесным началом. На эту связь Жуковский указывает, говоря об отличиях, существующих между языческим и христианским отношением к жизни: «Правда, у древних всё жизнь, но жизнь, заключенная в земных пределах; и далее ничего: с нею всему конец. У христиан всё смерть, то есть всё земное, заключенное в тесных пределах мира, ничтожно, и всё, что душа, – нетленно, всё жизнь вечная. И всё оттого, что у них есть Один, Который смертию смерть попра и сущим в гробех живот дарова!»6
Разницу в понимании жизни у Жуковского и Гете отмечает А. Н. Веселовский, говоря об истолковании русским поэтом одной сцены из поэмы германского гения (статья Жуковского «Две сцены из Фауста» 1848 года): «Во всем этом нет и следа des lebendigen Lebens (живой жизни. – А. К. ); Гёте нашел бы такое толкование по крайней мере herzlich-fromm»7, то есть искренне набожным, благочестивым, но, видимо, не совсем отвечающим смыслу текста.
Автором выражения lebendigen Leben является друг Гете Шиллер («Мессинская невеста», 1803) [4: 11]. Первый случай использования этого выражения русским литератором, насколько мне известно, связан с В. К. Кюхельбекером. Характерно, что он приводит изначальный вариант в письме к матери на немецком языке от 17 ноября 1820 года, присланном из Германии после встречи с Гете: «Деятельная, живая жизнь пробудилась во мне» [3: 303]. Русский вариант «живая жизнь», очевидно, впервые употребил в 1829 году будущий славянофил Н. М. Языков в своем стихотворении «Прощальная песня»8. В нем с alma mater и однокашниками прощается студент Дерптского (ныне Тартуского) университета, где немецкие профессора читали лекции на немецком языке; так что введение в русский оборот немецкого выражения именно Языковым совершенно не случайно. Выражению этому в русской культуре суждено было большое будущее.
Следующее свидетельство об усвоении понятия находим в «Записках» А. О. Смирновой-Россет. Где-то в начале 30-х годов она присутствовала при разговоре Пушкина и Жуковского (общение Смирновой с Пушкиным и Жуковским происходило в 1831 году в Царском Селе и начиная с 1832 года после замужества в ее салоне): когда речь зашла о «Фаусте», Пушкин сказал, что в нем «больше идей, мыслей, философии, чем во всех немецких философах, не исключая Лейбница, Канта, Лессинга, Гердера и прочих. – Это философия жизни, des lebendigen Lebens, заключил Жуковский»9.
В то же время (то есть в 1831 году) Жизнь (именно с большой буквы) становится ключевым словом в программной статье нового журнала «Европеец», который начал издавать воспитанник Жуковского Иван Киреевский (за год до этого побывавший в Германии и воспринявший немецкую премудрость из первых уст – Гегеля, Шеллинга и других профессоров): «Именно из того, что Жизнь вытесняет Поэзию, должны мы заключить, что стремление к Жизни и Поэзии сошлись, и что, следовательно, час для поэта Жизни наступил»10. Здесь же происходит антропоморфи-зация (и эротизация) образа Жизни, характерная для представления о ней от Библии (Ева) до Ниц-ше11: «Ибо жизнь явилась ему (человеку нашего времени. – А. К. ) существом разумным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону его одушевленная статуя»12. У глубоко нравственного молодого автора еще не возникает мысли о возможности проблем в отношениях человека и жизни. А вот Языкову (который первым в России произнес слова «живая жизнь») и Ницше эти проблемы были хорошо знакомы – в виде погубившей их в конце концов болезни.
Как уже говорилось выше, В. Л. Комарович понятие «живая жизнь» на русской почве возводил к славянофилам. Автор комментария к роману Достоевского «Подросток» в академическом Полном собрании сочинений писателя Г. Я. Галаган в качестве подтверждения этого тезиса ссылается на статью Киреевского «Жизнь Стефенса» 1845 года13. Но мы уже знаем, что честь введения этого понятия в оборот принадлежит, скорее, Языкову, стихи которого публиковались в журнале Киреевского «Европеец» в начале 30-х годов. В 1834 году Киреевский использовал выражение «потребность жизни живее» (то есть потребность в том, чтобы жизнь стала живее) в статье «О русских писательницах»14. Строго говоря, в работе «Жизнь Стефенса» слова «жи- вая жизнь» Киреевскому не принадлежат: они содержатся в той части, которая представляет собой перевод автобиографии датско-немецкого профессора Х. Стефенса (ученика Шеллинга), и выполнен этот перевод был матерью И. Киреевского А. П. Елагиной15. Х. Стефенс вспоминает о том, как он пытался примирить науку, преподавание и жизнь: «И то, что тогда казалось мне чуждым, чем-то отделенным от всего остального, от свежей, живой жизни, простою игрою остроумия – предстало мне теперь в виде значительной Науки. <…> Что был школьный формализм в сравнении с горячею, живою жизнью?»16
В 30-е годы поклонение жизни, признание ее высшей инстанцией стало распространяться среди русской интеллектуальной элиты. Об этом, в частности, свидетельствуют высказывания членов известного кружка Станкевича. Сам Н. Станкевич писал: «Оковы спали с моей души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания; что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое призрак» [5: 91].
У членов кружка М. А. Бакунина и В. Г. Белинского понимание «жизни» претерпело определенные изменения, что было выражением эволюции их мировоззрений. 4 сентября 1837 года Бакунин констатировал: «Итак: нет зла, все благо; жизнь есть блаженство» [5: 111]. Признание божественного характера жизни приводит Бакунина и Белинского к знаменитому «примирению с действительностью»: «Все живет, все оживлено духом. Только для мертвого глаза действительность мертва. Действительность есть жизнь Бога. Бессознательный человек также живет в этой действительности, но он не сознает ее, для него все мертво… Чем живее человек, тем более он проникнут самостоятельным духом, тем живее для него действительность… Что действительно, то разумно» [5: 111]. Для подтверждения своей правоты Бакунин ссылается на Пушкина, преодолевшего жизнеотрицание Байрона, а также обращается к авторитету Гегеля и Гете, называя их «главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь» [5: 116].
Всеприятие жизни не «спотыкается» у Бакунина о факт существования страданий: «Страдание есть признак движения вперед, а движение есть признак живого источника жизни, а где есть жизнь, там и любовь, там и блаженство и все прекрасное и истинное» [5: 112–113]. Страдания свидетельствуют о противоречивости жизни: «Если мы говорим, что жизнь прекрасна и божественна, то мы уже тем самым говорим, что она полна противоречий <…> Противоречия – это жизнь, очарование жизни, и кто не может их выносить, тот вообще не может вынести жизни <…>» [5: 125]. И постепенно в концепции жизни у Бакунина происходит смещение акцентов – с утверждения на отрицание: «Будем доверять вечному Духу, который нас потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечный творческий источник всей жизни. Радость разрушения одновременно – творческая радость». Как отмечает Д. И. Чижевский, «этот манифест завершает философское развитие Бакунина. Он не видит дальнейшего пути развития для философии» [5: 130].
Таким образом, от благодарного всеприятия жизни, от взгляда на действительность как на жизнь Бога Бакунин приходит к прославлению вечного Духа разрушения и уничтожения, а кто это, как не дьявол? Именно его Бакунин теперь называет источником всякой жизни. В 1842 году Бакунин публикует статью «Реакция в Германии» в «Немецких ежегодниках» (1842, 17–21 октября, № 247–251). В ней он «отдает долги» своим немецким наставникам в учении о жизни, повергая их в изумление пониманием жизни как отрицания: «Как раньше вся жизнь была “примирением”, так теперь Бакунин “знает из своей рефлексии, а особенно из своего живого опыта… что отрицание есть единственная пища и основное условие всякой живой жизни”. Пафос отрицания в статье “Ежегодников” так поразил “немцев”, что Руге еще через тридцать лет с восторгом о ней отзывался; об авторе Руге не мог сказать много хорошего. Сильное впечатление произвела статья и на тех из русских друзей Бакунина (Герцен, Белинский), которым она стала доступна» [5: 131].
Белинский движется в том же направлении, что и Бакунин. Его эволюция от романтической агрессивности по отношению к действительности – к знаменитому примирению с ней, а затем к новому отрицанию неоднократно описывалась в научной литературе. Концепт «жизнь» также играет очень важную роль в его творчестве. Развитие русской литературы Белинский рассматривал как движение «от реторики к жизни»17. Именно «вождем жизни» впоследствии назвал выдающегося критика и отца русской интеллигенции Аполлон Григорьев18.
Совершенно не случайно, на мой взгляд, сосредоточенность на понимании жизни как истины в последней инстанции приводит Белинского к тезису о том, что «в объективном царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии»19, к прославлению «гильотины»20, а также (какой бы смешной придиркой ни выглядело это замечание) к привычке напевать арию из популярной тогда оперы «Роберт-дья-вол»21. В 40-е годы Белинский противопоставляет французскую революционность, «социальность» и практичность немецкому умствованию. На это, как и на другие перемены, справедливо указывает Д. И. Чижевский: «Немецкой культуре, которая для Белинского так внутренне близка идеалистической философии, теперь противопоставляется французская как более ценная, “живая”, близкая к жизни. В эти же годы Белинский переживает религиозный кризис, приводящий его к атеизму и отрицанию личного бессмертия» [5: 169]. Добавлю только, что именно немецкая культура – от Гете до Д. Штрауса и Фейербаха – давала теоретическое и эстетическое обоснование переменам того рода, которые произошли в мировоззрении Бакунина и Белинского.
Писателем, который наиболее адекватно изображает жизнь, Белинский считал Гоголя. Именно его критик уже в 1835 году назвал «поэт жизни действительной» («О русской повести и повестях г. Гоголя»)22.
«Жизнь» стала объектом рефлексии Гоголя в самом начале его творческого пути. Об этом свидетельствует его очерк, который так и называется – «Жизнь» (1831). Здесь автор характеризует три великие культуры – Египет, Грецию и Рим, и самой живой из них оказывается греческая культура: «И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов слышалось дыхание цевницы: “Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с нею ее наслаждения. <…> Жизнь создана для жизни, для наслаждений – умей быть достойным наслаждения!”»23 Рождение Иисуса Христа заставляет «веселую Грецию» глядеть «беспокой-но»24, очевидно, от предчувствия своего поражения. В другой статье молодого Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» (1831) содержится мысль, что грекам-византийцам так и не удалось преобразовать свою культуру в христианскую, настолько это были разнородные явления: «Они языческие, круглые, пленительные, сладострастные формы куполов и колонн тщились применить к христианству, и применили так же неудачно, как неудачно привили христианство к своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свежести»25.
Таким образом, в сознании молодого Гоголя намечалось противопоставление «жизни» как радости и полноты природного бытия христианству.
В статье «О поэзии Козлова» (1831–1833) Гоголь описывает, как изменялось мировосприятие потерявшего зрение поэта: «Светлый, полный – раздольное море жизни – мир древних греков не властен был дать направление поэзии Козлова. Когда весь блеск, все разнообразие постоянно светлой, в бесчисленных формах проявляющейся жизни природы слились для него в одну ужасную единицу – в мрак, – могла ли душа жить прежними ясными явлениями?» Поэт ослеп, и ему оставалось лишь «горько улыбнуться уже несуществующей для нее (души. – А. К. ) прежней Илиаде жизни». Его могло поддержать только «кроткое христианское величие веры…»26.
В статье 1832 года «Взгляд на составление Малороссии» у Гоголя появляется выражение «жизнь живая». Ее он не находит в чуждой ему природе Великороссии. Так, Гоголь говорит о славянском народе, покинувшем южную Россию: «Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение однообразно гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябание, поражающее душу мыслящего»27.
В 1842 году Гоголь в письме к П. В. Нащокину (от 20 (8) июля) уже без инверсии использует интересующее нас выражение: «Жизнь, живая жизнь должна составить ваше учение, а не мертвая наука»28. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» схожие по смыслу места встречаются неоднократно: актер-художник может сделать жизнь «видной и живой» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», 1845)29; русский язык «живой, как жизнь» («В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»)30. Наконец, во втором томе «Мертвых душ» об Улиньке говорится: «Это было что-то живое, как сама жизнь»31.
Процесс изменения восприятия жизни, происходивший в душе самого Гоголя, чем-то напоминает то, что, по его мнению, испытал Козлов. Непосредственная, природная жизнь (или, как он выражается, «Илиада жизни») постепенно теряет для него свои краски. В статье «Светлое воскресенье», вошедшей в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями», Гоголь с болью восклицает: «И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь <…> исполинский образ скуки <…> Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоем мире!»
«Мы трупы», – констатирует автор «Мертвых душ», – а «церковь наша есть жизнь»…32
В «<Авторской исповеди>» Гоголь отмечает то, что «…в нынешнее время <…> все так заняты вопросом жизни». Сам он давно этим занимался («Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был – жизнь, а не что другое») и для себя вопрос о жизни уже решил: «Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка». Как явствует из дальнейших слов Гоголя, эту загадку разрешил Иисус Христос, и здесь писатель, очевидно, имеет в виду Его слова «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. 14:6). «Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь»33.
Для В. Ф. Одоевского, употребившего выражение «живая жизнь» в романе «Русские ночи» (1844), это понятие ассоциируется прежде всего с любовью. Исправить человека можно только силой любви, без этого «все труды над ним потеряны, ибо живой жизни ему не дали»34. Тезису Декарта «сogito, ergo sum» и «в начале было дело» гетевского Фауста Одоевский противопоставляет свое понимание смысла жизни (глубоко чувствовать и любить): «Мыслить не значит жить… Действовать не значит жить… Нет жизни без глубокого чувства; нет сего чувства без любви; нет любви без сего чувства»35.
В работах основоположников и главных идеологов славянофильства А. С. Хомякова и И. В. Киреевского слова «жизнь», «живой» играют ключевую роль и обозначают понятия, принадлежащие к сфере высших ценностей. Примеры из Хомякова: «искусство истинное есть живой плод жизни»; «жизнь всегда предшествует логическому сознанию и всегда остается шире его»; «познание жизненное»; «жизненное знание»; художество – «образ самопознающейся жизни»; «жизнь уже потому, что жива, имеет право на уважение, а жизнь создала нашу Россию»; «жизнь покупается только жизнью»36. Неслучайно соратник Хомякова А. И. Кошелев для характеристики мыслителя использовал все то же слово: «Для Хомякова дороже всего была жизнь, правда, как в церкви, так и в человеке»37.
Аналогичные хомяковским цитаты можно привести из сочинений Киреевского: «живое рождается только из жизни»; «живые истины… те… которые дают жизнь жизни»38.
Отмечу при этом, что в работах Хомякова и Киреевского мне не удалось обнаружить случаев использования выражения «живая жизнь». «Жизнь живее» у Киреевского и «живая жизнь» в переводе его матери – не в счет (указанные случаи описаны выше).
Зато в сочинениях славянофилов братьев Аксаковых понятие «живая жизнь» встречается достаточно часто. С его помощью Константин Аксаков характеризует поэму Гоголя («Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души», 1842): «Все, от начала до конца, – полно одной неослабной, неустающей, живой жизни, той жизни, которою живет предмет, перенесенный весь и свободно без малейшей утраты в область искусства; жизнь всюду, в каждой строке <…>»39. В другой статье «жизнь живая» рассматривается как синоним жизни народной («Три критические статьи г-на Имрек», 1847)40.
«Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, как известно, в семье Аксаковых (за исключением Ивана) оценили негативно, и Константин объясняет это отношение опять же с помощью выражения «живая жизнь» (в письме к автору в мае 1848 года): «Сверх того, вас пленила, как сказал я выше, художественная красота подвига, вы предались ей, этой опасной красоте, столь облыгающей веру и чувство и принимающей на себя их образ, столь соблазнительной, прекрасной и столь ложной, в настоящей живой жизни и в настоящей истинной истине»41. Обратим внимание на тавтологическое сочетание «истинная истина». «Живая жизнь», как и «душа души» у мистиков, – из того же разряда.
«Живой жизни» К. Аксаков не находит не только в последнем сочинении любимого писателя, но и в литературе в целом, которой эта жизнь противопоставляется. После суровой оценки отечественной словесности критик пишет: «Такова наша современная литература. Но унывать мы не будем: пусть темнеет ночь прожитого наконец нами дня; мы знаем, что жизнь жива <…>»42. Конечно, вера в то, что жизнь жива, должна поддерживать К. Аксакова при свойственном ему сознании мертвенного характера современного общества и его культуры. Но в одном из своих стихотворений («Разуму», 1857) он сетует на то, что слишком далеко эта жизнь скрылась:
В недоступные пучины Жизнь ушла, остался след: Пред тобой ее пружины, Весь состав, а жизни нет43.
Очень характерно при этом, что близкие Константину Аксакову люди (и это были именно женщины – мать, сестра) остро чувствовали то, что сам он находился с жизнью в очень противоречивых отношениях. Так, сестра Вера в письме к брату Ивану от 24 июня 1844 года пишет о Константине: «Истинно он меня иногда душевно огорчает, можно ли быть в таком противоречии с жизнью, как он, можно ли требовать от случайностей ми-мопролетающих чего-нибудь положительного, законного; конечно, собственно в требовании этой законности, в желании найти их везде, в этом есть смысл, и глубокий, но хорошо это в области мысли, но в жизни, разумеется, это нарушает всякую гармонию жизни, делает жизнь не-жизнью»44.
Иван Аксаков, действуя в рамках славянофильского идейного контекста, также неоднократно использует понятия «жизнь» и «живая жизнь». Но в его позиции есть свои особенности. Это известный скептицизм, характерный для молодого представителя славянофильской семьи. Скрытая полемичность присутствует в одном из стихотворений 1846 года, в котором обыгрывается тема мудрости позиции «жизнь для жизни» (напоминающая и о стихотворении Пушкина «К вельможе» – «Ты понял жизни цель: счастливый человек, Для жизни ты живешь» – и о «сры-вателе» цветов Печорине):
Блаженны те, кто с юношеских лет Заботой дум себя не отравили, Но радостей сорвали полный цвет, Но на земле для жизни только жили.
И наконец под старость, в добрый час, Когда грешить им стало не под силу, Покаялись на случай, про запас.
И отошли в холодную могилу45.
На склоне своих дней И. С. Аксаков, резюмируя смысл позиции славянофилов, писал: «Они, по выражению Хомякова, “допрашивают духа жизни”, скрытого в нашем былом и хранящегося еще в настоящем, т. е. в простом русском народе»46 . Однако сам он в молодости подвергал сомнению авторитетность «былого» и его наполненность «живой жизнью». В письме к родным от 5 ноября 1849 года из Углича – места, куда как связанного с русской историей, И. Аксаков замечает: «…Вы не вполне схватили мою мысль, именно, что древние события превратились в чисто религиозные предания, но вовсе не живут живою жизнью <…>»47. И гораздо позднее, также в переписке (письмо Т. Филиппову от 13 июля 1878 года): «Старина заслуживает почтения, но не должна глушить живой жизни»48.
«Живая жизнь» продолжает оставаться для Ивана Аксакова высшей инстанцией («Мы совершенно оторваны от живой жизни и народа»)49, но просто «жизнь» и «народ» явно таковой не являются:
«Ваш Хомяков слишком верит в жизнь, приятель ваш Константин Сергеевич Аксаков, кажется мне, слишком верит в авторитет народа».
«Но я не могу верить и в силу самой жизни; к чему привела эта вера в жизнь?.. К современному положению, ибо жизнь, предоставленная сама себе, легко может быть подавлена и искажена всякою внешнею силой».
«Я, со своей стороны, вижу бессилие самой жизни».
«Но вера в нравственные начала и вера в жизнь – две вещи совершенно разные…».
«Я разделяю мнение тех, которые не верят в гарантию, в правду, чем-либо формулированную, но не верю вполне и самой жизни, почему и приходила мне в голову мысль, что роль правительства – быть регулятором движения жизни, хранителем общих начал в чистоте их, которые легко устраиваются самою жизнью»50.
Таким образом, в первой половине XIX века в русской литературе оформился очень важный для нее концепт – «жизнь». Это понятие использовалось в качестве основополагающего представителями разных направлений – литературных (романтизм и реализм), идейных и общественнополитических (западники и славянофилы, радикалы и консерваторы). «Жизнь» возводилась к Богу или становилась Его заменой. В каждом случае использование этого понятия в художественных, критических и публицистических текстах требует специального рассмотрения и осмысления.
Ориентация русской литературы на объективное воспроизведение действительности («реализм») сопровождалась в большинстве случаев пониманием органического единства всего живого, его особой природы, что позволяет говорить о своеобразном «витализме» отечественной словесности.
Kunil’skiy A. E., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)
VITALISM IN RUSSIAN LITERATURE OF THE FIRST HALF OF THE XIXth CENTURY
Список литературы Витализм в русской литературе первой половины XIX века
- Кунильский А.Е. Источники витализма в русской литературе первой половины XIX века//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2016. № 7-1 (160). С. 100-104.
- Риккерт Г. Философия жизни: Изложение и критика модных течений философии нашего времени/Пер. Е.С. Берловича и И.Я. Колубовского. Пб.: Academia, 1922. 167 с.
- Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1969. 424 с.
- Фойницкий В.Н. Об источниках выражения «живая жизнь»//Русская речь. 1981. № 2. С. 10-11.
- Чижевский Д.И. Гегель в России. СПб.: Наука, 2007. 411 с.
- Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 6. С. 113.
- Жуковский В.А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. Т. 1. С. 367.
- Жуковский В.А. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1985. С. 350.
- Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1904. С. 359.
- Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 238.
- Европеец: Журнал И.В. Киреевского. 1832. М.: Наука, 1989. С. 14-15.
- Европеец. С. 19-20
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. XVII. C. 286-287.
- Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984. С. 101.
- Русские писатели. 1800-1917: Биограф. словарь. Т. 2: Г-К. М., 1992. С. 221.
- Киреевский И.В. Полн. собр. соч./Изд. А. И. Кошелева. М., 1861. Т. II. С. 96.
- Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 6. С. 91.
- Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967. С. 458.
- Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 9. С. 443.
- В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1977. С. 473, 503.
- Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 3. С. 162.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 248.
- Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 7. С. 243-244.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. XII. С. 75.
- Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 6. С. 59.
- Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 5. С. 245, 362.
- Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 6. С. 191, 34.
- Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 102-103.
- Хомяков А.С. О старом и новом: Статьи и очерки. М.: Современник, 1988. С. 63, 81, 89, 96, 99, 116, 151.
- Кошелев А. И. Мои воспоминания о А.С. Хомякове//Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 169.
- Киреевский И.В. Избранные статьи. М., 1984. С. 169, 280.
- Аксаков К. С., Аксаков И.С. Литературная критика. М.: Современник, 1981. С. 146.
- Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 2. С. 98.
- Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 225.
- Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. С. 424.
- Пирожкова Т. Ф. «Жизнь как трудный подвиг» (В.С. Аксакова, ее дневники и письма)//Аксакова, Вера. Дневники. Письма. СПб.: Пушкинский Дом, 2013. С. 23.
- Аксаков И.С. Стихотворения и поэмы. Л., 1960. С. 83.
- Аксаков К. С., Аксаков И.С. Литературная критика. С. 308.
- Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. II. Письма 1849-1857 гг. М.: Русская книга, 2004. С. 76.
- Русская литература. 2006. № 1. С. 139.
- Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? М.: Российская политическая энциклопедия (РОСС-ПЭН), 2002. С. 26.