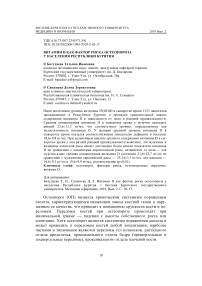Витамин D как фактор риска остеопороза у населения Республики Бурятия
Автор: Батудаева Татьяна Ивановна, Санжиева Дулма Зориктуевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация @vestnik-bsu-medicine-pharmacy
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
Нами исследован уровень витамина 25(OH)D в сыворотке крови 1323 пациентов, проживающих в Республике Бурятия и проведен сравнительный анализ содержания витамина D в зависимости от пола и расовой принадлежности. Средняя концентрация витамина D в сыворотке крови у мужчин оказалась равной 23,6±13,3 нг/мл, что соответствует уровню, определяемому как недостаточность витамина D. У женщин средний уровень витамина D в сыворотке крови оказался соответствующим показателю дефицита и составил 18,6±9,8 нг/мл. При дальнейшем анализе среднего содержания витамина D в сыворотке крови у лиц разной расовой принадлежности выявлено, что мужчины и женщины азиатской расы имеют достоверно более низкие показатели витамина D по сравнению с пациентами европеоидной расы, независимо от пола - для мужчин-азиат средняя концентрация витамина D составила 21,6±12,7 нг/мл по сравнению с мужчинами европейской расы - 25,2±13,3 нг/мл, для женщин - 16,6±9,1 нг/мл и 19,6±9,9 нг/мл, соответственно (p
Остеопороз, факторы риска, остеопорозные переломы, витамин d
Короткий адрес: https://sciup.org/148317816
IDR: 148317816 | УДК: 616.71-007.234(571.54) | DOI: 10.18101/2306-1995-2019-2-10-17
Текст научной статьи Витамин D как фактор риска остеопороза у населения Республики Бурятия
Батудаева Т. И., Санжиева Д. З. Витамин D как фактор риска остеопороза у населения Республики Бурятия // Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация. 2019. Вып. 2. С. 10-17.
Остеопороз (ОП) является хроническим системным поражением скелета, характеризующимся снижением массы костной ткани и нарушением ее качества, что приводит к повышению хрупкости кости и переломам. Переломы костей при остеопорозе происходят при минимальной травме — падении с высоты собственного роста или спонтанно. Хотя остеопороз является системным поражением скелета и может приводить к переломам костей любой локализации, наиболее частыми и типичными являются переломы тел позвонков, дистального отдела предплечья, проксимального отдела бедра (чрезвертельные и подвертельные переломы), проксимального отдела плечевой кости.
Эксперты Международного Фонда Остеопороза (International Osteoporosis Foundation — IOF) отмечают, что каждые три секунды в мире происходит один перелом, вызванный остеопорозом; начиная с возраста 50 лет одна из трех женщин и один из пяти мужчин в течение оставшейся жизни перенесут хотя бы один перелом, связанный с остеопорозом [6]. Также известно, что у женщин риск перелома шейки бедра превышает суммарный риск рака молочной железы, яичников и матки; у мужчин риск перелома превышает риск рака предстательной железы. Примерно у 50% людей, перенесших один остеопорозный перелом, в будущем случится второй перелом, и с каждым новым переломом риск последующих растет в геометрической прогрессии [6].
Проблема остеопороза и его осложнений не является сугубо медицинской, общество несет и огромные экономические потери. Так, за 2010 г. в 27 странах Европейского Союза на лечение пациентов, перенесших малотравматичные переломы, было потрачено 37 миллиардов евро, по оценке специалистов, к 2025 г. эта сумма увеличится на 25% [13]. В нашей стране затраты на лечение основных остеопорозных переломов могут достигать 25 млрд руб. в год [5].
Как отмечают специалисты IOF, переломы при минимальной травме не являются обязательными для пожилых людей и стариков, в настоящее время имеются все возможности для ранней диагностики остеопороза и своевременной профилактики заболевания, а также лекарственные препараты, способные изменить течение болезни, уменьшить риски развития переломов костей у лиц старшей возрастной группы, улучшить прогноз не только в отношении качества жизни пожилых пациентов, но и увеличить продолжительность жизни людей, страдающих остеопорозом.
Факторы риска остеопороза хорошо известны и изучены. Знание их необходимо, в первую очередь, участковому терапевту или врачу общей практики для формирования групп риска развития остеопороза и своевременного направления пациентов на обследование с целью диагностики заболевания и назначения профилактических или лечебных мероприятий лицам, нуждающимся в них. Согласно клиническим рекомендациям по остеопорозу 2012 г. [8] выделены следующие факторы риска остеопороза и переломов:
-
• возраст старше 65 лет;
-
• женский пол (соотношение женщины: мужчины составляет 3:1);
-
• европеоидная раса;
-
• предшествующие переломы при небольшой травме;
-
• склонность к падениям;
-
• низкая минеральная плотность кости (МПК);
-
• наследственность (семейный анамнез по переломам проксимального отдела бедренной кости);
-
• системный прием глюкокортикостероидов более 3 мес.;
-
• низкая физическая активность;
-
• длительная иммобилизация;
-
• масса тела менее 57 кг и/или ИМТ < 20 кг/м²;
-
• гипогонадизм у мужчин и женщин;
-
• курение и злоупотребление алкоголем;
-
• недостаточное потребление кальция;
-
• дефицит витамина D;
-
• снижение клиренса креатинина и/или клубочковой фильтрации.
Необходимо, однако, отметить, что в последних Федеральных клинических рекомендациях по диагностике, лечению и профилактике остеопороза 2017 г. приводятся лишь факторы риска остеопороза, включенные Всемирной Организацией Здравоохранения в модель расчета вероятности переломов в ближайшие 10 лет (т. н. инструмент FRAX) [9], к которым относятся:
-
• возраст;
-
• пол;
-
• предшествующие остеопорозные переломы;
-
• низкая МПК в области шейки бедра;
-
• низкий индекс массы тела;
-
• прием глюкокортикостероидов внутрь ≥ 5 мг (в расчете на преднизолон) в течение более 3 мес.;
-
• наличие у пациента ревматоидного артрита;
-
• наличие других заболеваний, вызывающих вторичный остеопороз;
-
• перелом бедра у родителей в анамнезе;
-
• курение (на момент опроса);
-
• прием алкоголя (3 порции в сутки и более).
Ранее, в группе женщин 50 лет и старше, проживающих в Бурятии и имеющих минеральную плотность костной ткани, соответствующую диагнозу остеопороза, нами были выявлены такие факторы риска остеопороза как возраст (средние значения 65,1±7,5 лет в отличие от группы женщин с нормальными показателями МПК — 56,9±6,0 лет), более низкие показатели массы тела и индекса массы тела (63,4±9,7 кг против 76,6±12,2 кг в группе женщин не страдающих остеопорозом; 25,2±3,7 против 29,4±4,3 соответственно) и более поздний возраст начала менструального цикла (14,3±1,5 года у пациенток с остеопорозом против 13,6±1,4 года у женщин с нормальными показателями костной массы) [2]. Наряду с перечисленными был выявлен факт достоверно большего количества остеопорозных переломов различных локализаций в анамнезе у пациенток с низкой минеральной плотностью костной ткани по сравнению с женщинами, имеющими нормальные показатели МПК. Все перечисленные значения имели статистическую достоверность различий. Также согласно полученным нами данным, остеопорозные переломы случаются у женщин, проживающих в нашей республике, в 2,4 раза чаще, чем у мужчин [1]. Различия между полученными нами данными и результатами эпидемиологических исследований в других регионах России, вероятно, обусловлены тем, что в наших работах не учтены переломы тел позвонков в связи с определенными трудностями при диагностике, в частности, пациенты, перенесшие остеопорозные переломы тел позвонков, нередко не обращаются за помощью в лечебное учреждение или им не проводится рентгенологическое исследование.
При дальнейшем анализе осложнений остеопороза у жителей Бурятии нами выявлено, что лица коренной национальности имеют низкоэнергетические переломы в 2 раза чаще, чем жители славянской национальности [3]. Так, среди бурят частота остеопорозных переломов составила 648,8 случая на 100 000 человек, среди русских — 323,6 случая на 100 000 жителей соответственно.
В связи с выявлением значительной разницы в частоте распространенности остеопорозных переломов у лиц разных этнических групп нами предпринято исследование содержания витамина D в сыворотке крови лиц, проживающих в Республике Бурятия, поскольку факт влияния витамина D на метаболизм костной ткани хорошо известен. Согласно данным систематических обзоров литературы, дефицит витамина D в сыворотке крови ассоциируется с повышением риска развития остеопороза и связанных с ним переломов костей, а также увеличивает риск падений, мышечной слабости, общей и сердечно-сосудистой смертности [12].
Проведенные в нескольких городах России исследования распространенности дефицита витамина D подтвердили наличие его в разных популяционных группах. Так, снижение уровня витамина D ниже нормы выявлено у 89% женщин в возрасте от 25 до 56 лет, проживающих в г. Чебоксары [4]. У жительниц г. Москвы, имеющих менопаузу, был выявлен дефицит витамина D в крови в 70,3% случаев [11]. В Cеверо-Западном регионе России снижение концентрации витамина D до уровня недостатка и дефицита было установлено у 82,2% жителей в возрасте от 18 до 70 лет [7].
Целью работы явилось исследование содержания витамина D в сыворотке крови у лиц разных этнических групп, проживающих в Республике Бурятия.
Материалы и методы
Уровень витамина D — 25(OH)D в сыворотке крови был определен методом иммунохимиолюминесценции на аппарате Roche COBAS 6000 (Мангейм, Германия) у 1323 пациентов, направленных на обследование в клинико-диагностическую лабораторию Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко врачами разных специальностей. Подавляющее большинство обследованных пациентов оказались жителями г. Улан-Удэ. Возраст пациентов составил от 20 до 86 лет. Согласно клиническим рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых 2016 г. дефицит витамина D определяется как уровень 25(OH)D в сыворотке крови менее 20 нг/мл. Содержание витамина D 20‒30 нг/мл расценивается как недостаточность, за оптимальный уровень принято значение более 30 нг/мл [10].
Результаты
Всего проанализированы результаты анализов на содержание витамина D в сыворотке крови 1323 человек. Из них мужчин было 587 человек, женщин — 736.
Среднее содержание витамина D в сыворотке крови в общей группе обследованных пациентов составило 20,2±11,3 нг/мл, что свидетельствует о недостаточности витамина D в целом по группе.
Средняя концентрация витамина D в сыворотке крови у мужчин оказалась равной 23,6±13,3 нг/мл, что соответствует уровню, определяемому как недостаточность витамина D. У женщин уровень витамина D в сыворотке крови оказался соответствующим показателю дефицита и составил 18,6±9,8 нг/мл.
Необходимо отметить, что в г. Улан-Удэ отмечается высокий уровень солнечной радиации, ежегодное число часов с солнцем очень высоко (более 2400 часов), по этому показателю город примерно соответствует таким южным городам России как Анапа и Находка. И, несмотря на это, содержание витамина D у жителей г. Улан-Удэ оказалось низким. При этом, мы не учитывали сезонность определения витамина D, часть пациентов была обследована в летнее время, когда дневные температуры позволяют носить открытую одежду. Большую часть года температурный фон не позволяет получать жителям Бурятии количество солнечного света, достаточное для синтеза витамина D кожей в необходимом количестве.
При разделении групп обследованных пациентов по расовой принадлежности были получены следующие результаты. Мужчин европеоидной расы оказалось 279, мужчин-азиат — 208 человек, женщин европейской национальности — 395, женщин-азиаток 341.
Среднее содержание витамина D в сыворотке крови у мужчин-европеоидов составило 25,2±13,3 нг/мл, что оказалось достоверно выше, чем у мужчин-азиат — 21,6±12,7 нг/мл.
Среднее содержание витамина D в сыворотке крови у женщин-европеоидов оказалось равным 19,6±9,9 нг/мл, у женщин-азиаток — 16,6±9,1 нг/мл, различия в показателях также оказались статистически достоверными (p<0,01).
Заключение
Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что уровень витамина D у населения Республики Бурятия является низким, соответствующим недостаточности у мужского населения и дефицита — у женщин. Кроме того, низкий уровень витамина D может явиться одной из весомых причин развития остеопороза и связанных с ним переломов костей скелета, что, возможно, вносит свой вклад в различия в частоте остеопорозных переломов у жителей Бурятии разных этнических групп, т.е. более низкий уровень витамина D в сыворотке крови у лиц бурятской национальности возможно является одной из причин более высокой частоты малотравматичных переломов у коренного населения республики. Полученные результаты требуют дальнейшего изучения и подтверждения.
Список литературы Витамин D как фактор риска остеопороза у населения Республики Бурятия
- Батудаева Т. И. Клинико-эпидемиологические особенности осложнений остеопороза у жителей Республики Бурятия // Вестник РАЕН. 2014. Т. 14(6). С. 97-101.
- Батудаева Т. И., Меньшикова Л. В., Шегимова Е. А Анализ отдельных факторов риска остеопороза у женщин, проживающих в г. Улан-Удэ // Сиб. мед. журнал. 2010. № 6. С. 60-62.
- Батудаева Т. И., Спасова Т. Е. Распространенность осложнений остеопороза у жителей г. Улан-Удэ // Acta Biomedica Scientifica. 2015. Т. 2(102). С. 46-48.
- Борисова Л. В., Петрова А. С. Содержание витамина D3 у практически здоровых лиц, проживающих в г. Чебоксары. В кн.: Сборник научных трудов, посвященных 55-летию ГУЗ «Республиканский эндокринологический диспансер». Чебоксары; 2011. С. 86-89.
- Добровольская О. В., Торопцова Н. В., Лесняк О. М. Экономические аспекты осложненного остеопороза: стоимость лечения в течение первого года после перелома // Современная ревматология. 2016. Т. 10(3). С. 29-34.
- Здоровье скелета: проблемы и пути решения. Глобальный план изменения ситуации [Электронный ресурс] / Available at: URL: http://share.iofbonehealth.org/WOD/2016/thematic-report/WOD 16-report-WEB-RU.pdf (дата обращения: 20.02.2019).
- Распространенность дефицита витамина D в Северо-Западном регионе РФ среди жителей г. Санкт-Петербурга и г. Петрозаводска / Т. Л. Каронова, Е. Н. Гринева, И. Л. Никитина и соавт. // Остеопороз и остеопатии. 2013. № 3. С. 3-7.
- Лесняк О. М. Клинические рекомендации по профилактике и ведению больных с остеопорозом. Ярославль: Литера, 2012. 23 с.
- Мельниченко Г. А., Белая Ж. Е., Рожинская Л. Я. и соавт. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза // Проблемы эндокринологии. 2017. Т. 63(6).
- Пигарова Е. А., Рожинская Л. Я., Белая Ж. Е. и соавт. Клинические рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых // Проблемы эндокринологии. 2016. Т. 62(4). С. 60-61.
- Торопцова Н. В., Никитинская О. А., Беневоленская Л. И. Профилактика первичного остеопороза с помощью различных препаратов кальция // Остеопороз и остеопатии. 2005. № 1. С. 36-39.
- Bischoff-Ferrari H. A., Willett W. C., Wong J. B., et al. Fracture prevention with vitamin D supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials // JAMA. 2005. Т. 293. Р. 2257-64.
- Hernlund E., Svedbom A., Ivergard M., et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden: A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) // Arch Osteoporos. Dec. 2013. Т. 8(1-2). Р. 136.