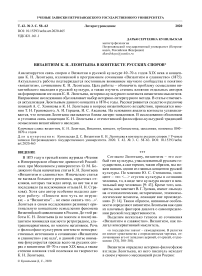Византизм К. Н. Леонтьева в контексте русских споров
Автор: Кунильская Дарья Сергеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Анализируется связь споров о Византии в русской культуре 40-70-х годов XIX века и концепции К. Н. Леонтьева, изложенной в программном сочинении «Византизм и славянство» (1875). Актуальность работы подтверждается постоянным вниманием научного сообщества к понятию «византизм», сочинениям К. Н. Леонтьева. Цель работы - обозначить проблему осмысления византийского наследия в русской культуре, а также изучить степень влияния отдельных авторов на формирование взглядов К. Н. Леонтьева, историко-культурного контекста византизма мыслителя. Направление исследования обусловливает выбор историко-литературного метода. В статье отмечается актуализация Леонтьевым данного концепта в 1870-е годы. Рассматриваются сходство и различие позиций А. С. Хомякова и К. Н. Леонтьева в вопросе византийского воздействия, приводятся мнения Т. Н. Грановского, А. И. Герцена, И. С. Аксакова. На основании анализа контекста устанавливается, что позиция Леонтьева оказывается ближе лагерю западников. В исследовании обоснована и уточнена связь концепции К. Н. Леонтьева с отечественной философско-культурной традицией осмысления византийского наследия.
Византизм, к. н. леонтьев, византия, концепт, публицистика, западники, полемика 18401870-х годов
Короткий адрес: https://sciup.org/147226590
IDR: 147226590 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.465
Текст научной статьи Византизм К. Н. Леонтьева в контексте русских споров
В 1875 году в третьей книге журнала «Чтения в Императорском обществе древностей Российских при Московском университете» О. М. Бодянского была напечатана статья К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство». Изначально статья не вызвала большого резонанса, серьезных откликов, которых так ждал автор, на нее так и не последовало (за исключением отзыва Н. Н. Страхова). Хотя сам автор особенно выделял данную работу: «Повести мои чуть не игрушки; – а “Византизм”… не смею сказать что…»1. Леонтьев в своем исследовании развивает оригинальную концепцию осмысления феномена Византийской цивилизации в России. До этой работы К. Н. Леонтьева (а во многом и после) византизм понимался как нечто ретроградное, ультраконсервативное, во многом негативное. Речь о философско-культурном контексте непосредственных источников к сочинению «Византизм и славянство» уже шла2, в данной статье внимание фокусируется прежде всего на русских спорах о византизме 40–70-х годов XIX века, а также степени влияния этой полемики на творчество К. Н. Леонтьева.
***
Согласно Леонтьеву, византизм – это особый тип культуры, унаследованный русским государством, а сам термин, таким образом, мы можем назвать одним из главных концептов русской культуры. По мнению Ю. С. Степанова, «концепт – это <…> сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [9: 43]. Кроме того, концепты, как замечает В. Г. Зусман, имеют «выход» на «геополитические, исторические, этнопсихологические моменты, лежащие вне произведения» [5: 14]. Таким образом, названные особенности определяют византизм Леонтьева как один из ключевых факторов диалога о самоопределении русской государственности.
Выделим несколько тезисов из сочинения «Византизм и славянство». Византизм, как полагал консервативный мыслитель,
«в государстве значит – самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей, от расколов» (7(1), 300–301).
Византизм определил историко-философские взгляды Леонтьева, из него писатель исходит в своем учении о мессианской роли России:
«Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом все живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во вселенной» (7(1), 331).
Часто исследователи говорят о том, что именно К. Н. Леонтьев впервые обосновал и ввел концепт «византизм» в полемическое пространство русской культуры3. Почему же мыслитель остановился на термине «византизм», который в русском общественном сознании вовсе не отождествлялся с положительными идеалами? Обратим внимание на внешнюю ситуацию: конец 1860–1870 годы ‒ это время, когда тема Византии вновь актуализируется. О себе начинает заявлять русская византинистика (впоследствии эта ветвь российской исторической науки обретет всемирную известность). Изданы сочинения В. С. Иконникова «Опыт исследования культурного значения Византии в русской истории» (1869), Ф. А. Тернавского «Изучение византийской истории и ее тенденциозное приложение в Древней Руси» (1875). В 1870 году в Санкт-Петербурге открывается кафедра Византийской истории (Санкт-Петербугская духовная академия), проходят чтения по истории Византии (лектор – В. Г. Василевский)4. Если мы обратимся к публицистике, то и здесь заметим существенный интерес к теме Византийской империи. Во-первых, это постоянные упоминания Константинополя Ф. М. Достоевским в «Дневнике писателя» 1876–77 года («Рано ли, поздно ли, но Константинополь должен быть наш»5). Во-вторых, в 1869 году вышло сочинение «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского, ставшее очень значимым для Леонтьева. В своем труде Данилевский по-разному оценивает влияние Византии на славянский тип, но все же высказывает мысль о создании «федеративной формы славянского мира», в котором Россия стала бы играть главную роль, а Константинополь был бы столицей такого «Всеславянского союза» [4: 384, 429]. Отношение Леонтьева к концепции Данилевского, конечно, не сводится к простому заимствованию идей, скорее нужно говорить о развитии мысли Данилевского в работах Леонтьева. Р. А. Гоголев замечает, что Леонтьев не просто «наследует идеи и взгляды Данилевского, но дает им свое собственное развитие» [2: 64]. Почему же в 1888 году Леонтьев пишет о том, что само слово «византизм» «сослужило <…> плохую службу <…> на него нападали все, даже и весьма благоприятно обо мне писавшие» (8(2), 144). Неслучайно в конце XIX века в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Чуди- нова византизм определяется как «отличительная особенность византийского быта: деспотизм, бюрократизм, подчинение церкви государству <…> лесть, пышность, разврат»6, то есть фиксируется закрепленная норма с ярко выраженной отрицательной коннотацией. Леонтьев же вкладывал в данное определение противоположный смысл. В «Византизме и славянстве» писатель, поясняя преемственность византийской и русской традиций через оригинальную трактовку византизма пытался предотвратить деградацию культурной идентичности.
В 1887 году Леонтьев писал А. Александрову, одному из своих учеников:
«Знаете ли Вы, что две свои самые лучшие вещи роман и не-роман («Византизм и славянство». – Д. К .) – я написал после полуторагодовалого общения с Афонскими монахами, чтения аскетических писателей, жесточайшей как плотской [так] и духовной борьбы с самим собою» [7: 318].
В «Письмах с Афона» в 1872 году во время духовного кризиса и одновременно начала работы над «Византизмом и славянством» Леонтьев очерчивает свой круг чтения: «На столе моем рядом лежат Прудон и Пророк Давид, Байрон и Златоуст ‒ Иоанн Дамаскин и Гете; и – Хомяков и Герцен» (7(1), 132). Разнополярные сочинения, названные писателем, как нельзя лучше характеризуют противоречивость самого Леонтьева, оригинальность его работы. Для понимания смысла, который вкладывал публицист в концепт «византизм», необходимо хотя бы в общих чертах охарактеризовать особое отношение к Византии в русском обществе в первой половине XIX века. В приведенной выше цитате писатель упомянул труды А. С. Хомякова. Мы знаем, что Леонтьев очень ценил самобытность этого мыслителя, хотя в молодости (1850-е годы) А. С. Хомяков и все «старшие» славянофилы ему «казались такими моральными людьми, а я морали тогда не любил» (6(1), 34). Но в более позднем периоде (в 1872 году), когда писатель уже переживет несколько идейных кризисов, мы сталкиваемся с другой, крайне важной в контексте мировоззрения Леонтьева оценкой: «Иоанн, Филарет, Хомяков – сознательные, философски развитые продукты Византийской, аскетической культуры…» (7(1), 171)7. В целом, Хомякова и Леонтьева сближает, как пишет О. Л. Фетисенко, «глубокое проникновение в область национальной религиозной психологии» [11: 69]. Интересно, что и Хомяков, и Леонтьев выразили свой взгляд на глубинные причины сложных вопросов русской культуры, анализируя мировой исторический процесс. Историософская концепция Хомякова изложена в «Записках о мировой истории» (1838–1860) («Семирамида»), там же есть обширный раздел, посвященный Византии. По мысли Хомякова, внутреннюю культуру Византии наполняли собой две традиции, которые обусловливали ее неорганичность:
«История Византии представляет две стороны, совершенно противоположные стихии: одну Эллинско-христианскую, другую – Римско-государственную. С одной стороны – мысль, человечность, любовь, с другой – форма, себялюбие, нужда»8.
«Христианин, забывая человечество, просил только личного спасения, ‒ говорит мыслитель, ‒ государство, потеряв святость свою, переставало представлять собой нравственную мысль, церковь, лишившись всякого действия и сохраняя только мертвую чистоту догмата, утратила сознание своих живых сил…» [12: 50].
Несмотря на это, Хомяков называет Византийскую империю «одним из самых замечательных, самых великих явлений в области исторической»9. Интересно, что Леонтьев вполне разделяет мысли Хомякова, называя Византию продолжением Рима, империей «восточножреческой по социальной форме, христианской по идеям» (8(1), 323). Эту же мысль писатель интерпретирует иначе. Религиозное начало у Леонтьева соединено с государственной идеей – византийским кесаризмом, опирающимся на «древнее государственное право». По мнению мыслителя, это «дало возможность первому христианскому государству устоять так долго на почве расшатанной, полусгнившей, среди самых неблагоприятных обстоятельств» (7(1), 308). Следует также обратить особенное внимание на критически осмысленный тезис Хомякова о «личном спасении». У Леонтьева мы вновь столкнемся с противоположным толкованием. И речь здесь идет об известной шокирующей формулировке Леонтьева, о его знаменитом «трансцендентном эгоизме», что по сути означает заботу о спасении собственной души:
«В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено германским феодализмом…» (7(1), 300–301),
‒ писал Леонтьев в своем сочинении. В 1891 году в переписке с В. В. Розановым мыслитель подробно раскрывает понятие «личное христианство»:
«Христианство личное есть, прежде всего, трансцендентный (не земной, загробный) эгоизм. Альтруизм же сам собою “приложится”. “Страх Божий” (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости религиозной» [8: 235].
Несмотря на различия, Леонтьев ценил наследие А. С. Хомякова, советовал его книги своим ученикам (о. Иосифу Фуделю, А. Александрову). Знаменитое суждение Хомякова о Византии («говорить о Византии с пренебрежением – значит расписываться в собственном невежестве») прозвучало на страницах «Русской беседы» в 1859 году. Леонтьев читал и знал этот журнал, он внес его в список рекомендуемой литературы в «Записке о необходимости литературного влияния во Фракии» (1865). Вполне вероятно, что статья Дестиниуса и отзыв Хомякова могли попасть в поле зрения Леонтьева. Хомяков считал, что столкновение римской и христианской традиций привело к тому, что «зловоние общественной неправды, разврата и крови зарождало государство и сквернило всю землю визан-тийскую»10. Автор «Византизма и славянства», как мы выяснили, по-другому оценивал такое взаимодействие двух традиций, по его мнению, именно это придавало своеобразие и культурную оригинальность Византийской империи. В общем и целом об этой особенности Византийской империи высказывались практически все ведущие специалисты-византологи. Так, З. В. Удальцова отмечала, что
«вся духовная жизнь [византийского] общества отличается драматической напряженностью; во всех сферах знания, в литературе, искусстве наблюдается удивительное смешение языческих и христианских идей, образов, представлений, колоритное соединение языческой мифологии с христианской мистикой» [10: 46].
Разные типы сотрудничества христианства и язычества породили в результате оригинальный византийский синтез культурных традиций. Смешение, которое в конце концов дает уникальное сочетание, есть, по Леонтьеву, «период цветущей сложности». Леонтьев, высказывая мысль о культурной самобытности Византии, сочетающей христианское и языческое начала, в чем-то предвосхищал выводы отечественной византинистики.
Работа Хомякова «О старом и новом» (1839), его сочинение «Записки о всемирной истории» стали ответом на вызов П. Я. Чаадаева, его знаменитое первое «Философическое письмо» (1836). Согласно последнему, Византия ‒ «жалкое, глубоко презираемое… <западноевропейскими> народами»11 государство. Работы Чаадаева и Хомякова ‒ своеобразная отправная точка: именно они вызвали в русском обществе дискуссию о роли Византии в формировании русской культурной целостности. Леонтьев, опираясь на опыт истории, продолжает традицию осмысления русской идентичности, определения ее места в мире через свою оригинальную концепцию византизма.
Согласно данным «Национального корпуса русского языка», самое раннее использование лексемы «византизм» связано с именем А. И. Герцена и его статьями «Дилетантизм в науке» (1843) и «Русские немцы и немецкие русские» (1859). Этот факт заслуживает особого внимания, поскольку параллели в творчестве Герцена и Леонтьева несомненно существуют. Автор исследования «Философия культуры А. И. Герцена и К. Н. Леонтьева (Сравнительный анализ)» Е. С. Гревцова отмечает, что два эти мыслителя «могут и должны считаться связанными узами весьма близкого идейного родства» [3: 5].
По воспоминаниям М. В. Леонтьевой, племянницы К. Н. Леонтьева, в 1869 году, когда ее дядю перевели в город Янина консулом, они читали «Герцена ‒ наслаждались остроумием, блеском и теплотой в его “Былом и думах”» (6(2), 89). В «Англии», шестой части этого произведения, мы находим употребление термина «византизм»:
«Грубый католицизм и позолоченный византизм не так суживают ум, как тощий протестантизм…» [1: 224].
Интересно, что Герцен понимает Византию как символ нежизнеспособного государства или косного строя. Об этом он пишет, например, Н. П. Огареву:
«…цивил<изация>, переживающая себя, ‒ это Византия в средних веках …Теперь возьми ты любую точку старой Европы и любую сторону новых учений, ‒ ты увидишь их антагонизм и отсюда или необходимость Византии, или нашествия варваров ‒ варварам нет нужды приходить из дремучих лесов и неизвестных стран ‒ они готовы дома»12.
Размышлял Герцен и о сильном влиянии Византии: в потоке заимствованного русской культурой «верхним слоем теснившего ее берега» «самым глубоким» было «влияние византийское». Конечно, подобное воздействие казалось писателю пагубным. Для Леонтьева форма и внутреннее содержание – неразрывно связанные понятия: то, что проявляется в реальности в определенных формах, всегда есть отражение внутренних процессов.
Византия с ее культурным своеобразием, ее формализмом и орнаментальностью как раз отражала внутреннее кредо Леонтьева о «внешних формах», которые являются «пластическими символами идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть» [8: 431]. Эстетический компонент, важный и для Леонтьева, и для Герцена, выступает на первый план. Конечно, Герцен и Леонтьев по-разному видели будущее России, но отталкивались во многом от эстетических критериев.
Большинство западников, безусловно, относилось негативно к византийскому влиянию на Русь. В то же время достаточно часто византизм подвергался критике и, казалось бы, ближайшими идейными союзниками Леонтьева. Так, И. Аксаков критиковал взгляды Леонтьева на греко-болгарскую распрю и характеризовал византизм как явление, обособляющее Россию, но вместе с тем и тормозящее ее развитие:
«…у нас сама народность носит на себе напечатление Церкви. Мы приняли ее строй из Византии, даже блюдем ее со всем внешним характером византизма, ‒ даже в ущерб нашему национальному развитию!»13.
В его толковании византизм предстает как некий отвлеченный принцип, наследованный Россией. Леонтьев, последовательно выступающий с позиции эстета, выдвигает византизм как форму отличия от европейской цивилизации.
Отдельно следует выделить так у ю фиг уру, как Т. Грановский. Уже в своем первом университетском курсе (1839–1840) он уделил особое внимание истории Византии до IX века. Леонтьев, еще будучи студентом, почти полностью переписал в свою специальную тетрадь статью Грановского «Историческая литература Франции и Германии в 1847 году» (к этой статье Леонтьев будет постоянно возвращаться в своих сочинениях). В статье «Византизм и славянство» Леонтьев сетует на то, что объективных трудов, посвященных истории ромейского государстава, нет. Автор желает, чтобы нашлись «люди с таким же художественным дарованием, как братья Тьерри, Маколей или Грановский, люди, которые посвятили бы свой талант Византизму…» (7(1), 312). В чем же уникальность взглядов Грановского на византийское наследие? Во-первых, он подчеркивает, что благодаря Византии в Европе совершилось возрождение науки и искусства: «Великие творения Греции, попав на свежую почву, вызвали всестороннее обновление умственной жизни»14, а Россия приняла от Византии «лучшую часть народного достояния нашего, т. е. религиозные верования и начатки образования»15. Напомним, что, согласно Леонтьеву, византизм – это «особого рода образованность или культура» (7(1), 300). Леонтьев сходится с Грановским и в вопросе о византийской национальности. По Грановскому, «сила, собравшая разнородные элементы, заключалась в религии, утвержденной Отцами церкви в образованности, наследованной от классического мира вместе с языком». Леонтьев, отвечая на критику Аксакова, в 1874 году писал:
«Можно было бы многое возразить на это; хотя бы что племенного-то начала в Византии не заметно; все племена без различия сливались в одной идее, в Православии» (6(1), 98).
Для Леонтьева мнение и взгляды Грановского на протяжении всей жизни оставались авторитетными, в творчестве писателя не раз можно найти отсылки к мыслям ученого-историка16.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, концепт «византизм» ‒ сложное явление в русской истории и культуре. Его амбивалентность во многом обусловлена тем наполнением, которое привносило в этот концепт, важный для самоопределения государства, каждое новое поколение мыслителей. Конечно, называя имена Хомякова и Чаадаева, Герцена, Аксакова и Грановского, мы лишь обозначаем сюжет будущих исследований. Для более полного понимания контекста концепта «византизм» необходимо обратиться к трудам И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Н. Я. Данилевского, В. С. Соловьева. Можно с уверенностью сказать, что эти люди сыграли достаточно важную роль в творческой биографии К. Н. Леонтьева. В целом необходимо заметить, что концепт «византизм» формируется не в связи с развитием исторической науки, но именно в процессе историософского осмысления феномена Византийской цивилизации. В таком случае заслуга К. Н. Леонтьева заключается в том, что он, отталкиваясь от существующей философско-культурной традиции, включился в процесс осмысления византийского наследия для России и представил его как неотъемлемую часть культурного своеобразия России.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-312-00175.
Список литературы Византизм К. Н. Леонтьева в контексте русских споров
- Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. Т. 11. 815 с.
- Гоголев Р. А. "Ангельский доктор" русской истории. Философия истории К. Н. Леонтьева: Опыт реконструкции. М.: АИРО-XXI, 2007. 158 с.
- Гревцова Е. С. Философия культуры А. И. Герцена и К. Н. Леонтьева: Сравнительный анализ. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2002. 120 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. 576 с.
- Зусман В. Г. Концепт в системе научного знания // Вопросы литературы. 2003. № 2. С. 3-17.
- Кунильская Д. С. Концепт и идеологема "византизм" в публицистике К. Н. Леонтьева // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. Вып. 14: Анализ, интерпретация, понимание. С. 262-275.
- Леонтьев К. Н. Избранные письма. 1854-1891. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. 640 с.
- Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996. 798 с.
- Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2001. 590 с.
- Удальцова З. В. Византийская культура. М.: Наука, 1988. 289 с.
- Фетисенко О. Л. Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX века -первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский дом, 2012. 784 с
- Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М.: Современник, 1988. 465 с.