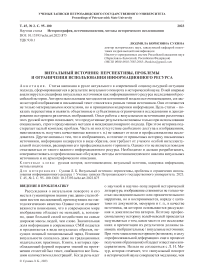Визуальный источник: перспективы, проблемы и ограничения использования информационного ресурса
Автор: Сукина Людмила Борисовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии. Источниковедение в актуальной исторической культуре
Статья в выпуске: 2 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья написана в русле актуального в современной социокультурной ситуации подхода, сформировавшегося в результате визуального поворота в исторической науке. В ней впервые анализируется специфика визуальных источников как информационного ресурса исследований российской истории. Автором использована методология когнитивной модели источниковедения, согласно которой изображение и письменный текст относятся к разным типам источников. Они отличаются не только материальными носителями, но и принципами кодировки информации. Цель статьи - показать перспективы и выявить объективные и субъективные ограничения в исследовании и декодировании историком различных изображений. Опыт работы с визуальными источниками различных эпох русской истории показывает, что продуктивные результаты возможны только при использовании специальных, строго продуманных методов и междисциплинарного подхода. При этом историка подстерегает целый комплекс проблем. Часть из них (отсутствие свободного доступа к изображениям, невозможность получить качественные копии и т. п.) не зависит от воли и профессионализма исследователя. Другие связаны с тем, что в изображениях, в отличие от привычных историку письменных источников, информация кодируется в виде образов, они требуют от ученого особой интеллектуальной подготовки, расширения его профессионального горизонта. Однако это не является поводом отказываться от такого важного информационного ресурса. Необходимо и дальше разрабатывать, совершенствовать и профессионально обсуждать методы источниковедческого анализа визуальных источников и их археографического описания.
Русская история, источниковедение, визуальный источник, кодировка информации, методы анализа
Короткий адрес: https://sciup.org/147240123
IDR: 147240123 | УДК: 930.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.875
Текст научной статьи Визуальный источник: перспективы, проблемы и ограничения использования информационного ресурса
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ
Рассуждения о визуальном повороте и его месте в гуманитарном знании уже давно стали общим местом исследований, претендующих на «методологическое» качество. Однако это не отменяет важности понимания, что в современном мире изображение обладает не меньшей, а, возможно, даже большей силой воздействия на самые широкие массы людей, чем слово. Значительная доля информации в современных СМИ подается и продвигается в виде визуальных образов, несущих мощный эмоциональный заряд. Влияние визуальности сказалось даже на традиционных издательских практиках. Книги, в которых преобладающей формой передачи знаний на протяжении столетий был текст, снабжаются все большим количеством иллюстраций1. Когда речь идет о научной и научно-популярной исторической литературе, изображение становится не только частью исследовательского или просветительского нарратива, но и воспринимается, наряду с цитатами из документов, мемуаров и т. п., в качестве источника, на котором основываются рассуждения и доказательства авторов. Поэтому профессиональному историку волей-неволей приходится задумываться о том, какое место в его исследованиях и презентации их результатов должны занимать изобразительные / визуальные источники. При этом мышление историков (возможно, в силу «профессиональной деформации» еще в процессе получения образования) обладает известным консерватизмом. Нельзя не согласиться с Л. Н. Мазур, которая отмечает, что «визуальный поворот в исторической науке совершается медленнее, чем в социологии и культурологии». Для историка «основой исторического знания и его символом» остается письменный источник, а «видимость» визуального источника воспринимается как вещь отвлеченная [3: 57].
Настороженность историков в отношении визуальных источников небезосновательна, так как методы и приемы их анализа еще плохо разработаны. Верифицировать заключенную в них информацию с помощью письменных источников, как предлагали крупные российские теоретики источниковедения М. Н. Тихомиров, С. О. Шмидт, И. Д. Ковальченко, В. А. Плугин и др., удается далеко не всегда, и результаты такой верификации часто неоднозначны [8].
Я думаю, что при работе с изображениями историку необходимо иметь в виду сформулированное и обоснованное в последних работах О. М. Медушевской теоретическое положение, согласно которому исследуемая источниковедением эмпирическая реальность мира прошлого представляет собой структуру типов и видов исторических источников, отличающихся друг от друга не только материальными носителями, но и принципами кодировки информации [4], [5]. Примерно те же мысли, но по поводу подходов к исследованию символических изображений в 2004 году высказал современный французский историк М. Пастуро в своей монографии2:
«Каждый источник имеет свою специфику и по-своему интерпретирует действительность. <…> Тексты и изображения вообще принадлежат к разным дискурсам и должны изучаться и анализироваться различными методами» [6: 121].
Эти идеи, как я полагаю, сохраняют актуальность и во вновь востребованной неоклассической модели исторического знания (и источниковедения, в частности).
Ключевой термин предлагаемых мною размышлений – визуальный источник, под которым понимается исторический источник, содержащий информацию, закодированную в визуальных образах. Ввиду ограничения объема публикации нет возможности типологически дифференцировать визуальные (изобразительные) источники, как это делал С. О. Шмидт [11: 21]. Я также оставляю в стороне дискуссию, относить ли к визуальным источникам архитектурные сооружения, искусственные ландшафты и т. п., и буду иметь в виду только сюжетные изображения.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
В различных моделях исследования прошлого и трансляции знания о нем, практикуемых совре- менными историками, информация визуального источника может использоваться по-разному. При этом проявляются и разные проблемы и ограничения, связанные с его видовой спецификой.
Иллюстрация исследовательского текста или научно-популярного нарратива
Использование визуального источника как «иллюстративного материала» – до сих пор наиболее частый случай включения его информации в контекст рукописи или публикации исторического сочинения. Перед профессиональным историком при этом стоит задача подобрать иллюстрации, максимально синхронизированные с его собственным текстом и / или цитируемыми либо публикуемыми в нем письменными источниками. Это не так просто, особенно когда дело касается Средневековья или более отдаленных исторических эпох. Сохранившиеся изображения того времени в музейных каталогах и искусствоведческих исследованиях, которыми приходится пользоваться историку, часто имеют «плавающую» атрибуцию с большим разбросом хронологии и места происхождения.
Изображения, созданные в Новое и, особенно, Новейшее время, гораздо легче датировать (по крайней мере, привязать их к конкретному десятилетию), сопоставить с определенной страной, художественной или визуальной (фото, плакат, коллаж) традицией. В данном случае важно не ошибиться с интерпретацией эстетической, социокультурной, идеологической нагрузки изображения. В первую очередь необходимо понять, была ли такая нагрузка изначальной или она «вчитана» в источник позднее.
В качестве примера приведу казус художника Н. А. Касаткина (1859–1930) – мастера реалистической живописи, с именем которого справедливо связывают создание «революционных архетипов» в русском, а позднее и советском искусстве [2]. Но до 1917 года по известным причинам профессиональный заработок Касаткина был связан не с созданием образов «нового пролетариата», а с изображением сцен семейно-бытовых конфликтов, которые были востребованы тогда на художественном рынке. В советское время в музейных экспозициях и популярной литературе эти сцены нередко получали несвойственную им «революционную» интерпретацию, и сейчас исследователь, прежде чем проиллюстрировать свой текст картиной Н. А. Касаткина, должен разобраться, например, в том, что некая курсистка жжет в камине – прокламации или переписку с бывшим поклонником3.
Отдельную проблему представляет собой иллюстрирование исторических нарративов асинхронными изображениями – как правило, работами русских и зарубежных художников XIX–XX веков на темы прошлого. Исторический жанр в этот период истории искусства был лакмусовой бумажкой, которой в академиях и художественных салонах всего мира проверяли профессионализм живописца. Поэтому он столь обильно и разнообразно представлен в творчестве многих крупных мастеров. Но перед ними стояла задача не достоверной реконструкции прошлого «как оно было на самом деле», а создания художественного образа, созвучного историческим представлениям современников, сформированным социально ориентированным историописанием, в том числе «большим историческим нарративом» классической эпохи европейской культуры4. Кроме того, в «картинах истории» претворился мир эмоций и творческой фантазии, колористических предпочтений и живописных навыков художников, их «культурный багаж», социальный и визуальный опыт, зафиксированы типажи натурщиков, с которыми они предпочитали работать не только над этими, но и над другими произведениями. Если подходить к этим изображениям со строгой источниковедческой меркой, то для использования их в качестве иллюстраций для современного исторического нарратива или учебных пособий оснований не больше, чем сопровождать описание европейского Средневековья кадрами из сериала «Игра престолов». Однако это не значит, что произведения исторической живописи не являются визуальными источниками. Картины художников XIX – начала XX века, как и произведения современных нам живописцев на исторические темы, содержат очень важную информацию о восприятии прошлого массовым сознанием определенной эпохи, способах фиксации его образов в исторической памяти широких социальных слоев, работе механизмов исторической, культурной и национальной идентификации. Констатация этого обстоятельства подводит нас к размышлению о собственной источниковой ценности изображений.
Визуальный источник в историческом исследовании
Визуальный источник способен дополнить и уточнить информацию, полученную исследователем из письменных источников. Несомненно, в биографических и просопографических работах историков изображения персон или представителей «социальных типов», о которых идет речь, не только «украшают» исследование, но и органично входят в его ткань. Так, например, сохранившийся портрет вологодского куп- ца XVII века Г. М. Фетиева вкупе с портретами людей, с которыми он общался по роду своей деятельности и собственной воле, вместе с архивными документами создают полнокровный образ богатого «гостя» допетровской Руси [10].
Особое значение визуальные источники приобретают в исследовании социальных и культурных процессов и явлений исторических периодов, небогатых письменными источниками. К различным изображениям часто обращаются историки, занимающиеся древним и средневековым Востоком, Античностью, а в последнее время и европейским и русским Средневековьем. Работа с визуальными источниками для них связана отчасти с тем же комплексом проблем, с которым сталкиваются исследователи, занимающиеся письменными источниками. Это сложности в функционировании архивов, библиотек и музеев, приводящие к малодоступности подлинников.
Не имея возможности изучать источник de visu, историк вынужден обращаться к его воспроизведениям в различных публикациях. И здесь уже у исследователей изображений возникают специфические трудности, связанные с особенностями кодировки визуальной информации с помощью не только графических средств, но и цвета, фактуры и т. п.
Высокая стоимость профессиональных фотоснимков изображений, в которую входит цена за право копирования, ограничивает возможность работать и с высококачественными репродукциями. Как справедливо пишет М. Пастуро, придающий первостепенное значение в изображениях символике цвета, это обстоятельство уже привело к искажению восприятия историками целых культурных эпох. Он также отмечает, что ситуация остается таковой и поныне, так как из-за дороговизны типографских расходов издатели стремятся сократить количество цветных иллюстраций в книгах [6: 119]. От себя добавлю, что, в отличие от исследователя, публикующего письменный источник, источниковед, работающий с изображением, не имеет общепризнанных профессиональных инструментов («правил археографии»), позволяющих передать важнейшие формальные особенности подлинника «машинным» способом набора его «текста». Вербальное описание визуального источника также дает совсем немного шансов, чтобы верифицировать выводы изучавшего его историка.
Хотелось бы коснуться еще одной важной проблемы, связанной с методологией интерпретации изображений в историческом исследовании. Дисциплинарная организация гуманитарного знания сложилась таким образом, что история как таковая и история искусства относятся к разным специализациям. Причем в университетской системе образования и науки история искусства организационно может быть отнесена и к историческим наукам, и к культурологии, и к «свободным искусствам», но в любом случае подготовка историка искусства как разновидности «искусствоведа» довольно специфична и серьезно отличается от подготовки профессионального историка. В произведении искусства искусствовед видит одно, а историк совсем другое. Как блестяще показал в своей книге о Пьеро делла Франческа К. Гинзбург, извлеченная представителями разных «исторических» специализаций информация и ее интерпретация не равнозначна и не взаимозаменяема [1]. Исследование К. Гинзбурга замечательно демонстрирует также, что историк не должен слепо доверять выводам коллег-искусствоведов. Порой, двигаясь своим путем, он способен не только дополнить их, но и существенно скорректировать зафиксированную в искусствоведческих работах и музейных каталогах-резоне атрибуцию изображения. В то же время искусствоведы и реставраторы произведений искусства обладают доступом к тем инструментальным возможностям, каких нет в распоряжении историка. В таком случае их наблюдения могут иметь первостепенное значение и для источниковедческого анализа картины, фрески, иконы и т. п. Новые находки, сделанные во время реставрационных и консервационных процедур, и выдвинутые на их основе гипотезы или сформулированные выводы способны сыграть решающую роль в верификации или фальсификации предыдущего источниковедческого исследования. Характерным примером может служить некогда резонансная работа В. А. Плугина, посвященная реконструкции мировоззрения Андрея Рублева на основе источниковедческого анализа произведений этого знаменитого иконописца [7]. В конце 1960 – начале 1970-х годов, когда Плугин занимался своим исследованием, ни у кого не было сомнений в атрибуции использованных им иконописных изображений Андрею Рублеву. Однако реставрационные наблюдения последнего времени перевели этот вопрос в дискуссионную плоскость. Если будет убедительно доказано, что большая часть известных ученым и тради- ционно атрибутируемых Рублеву произведений не только не принадлежит его кисти, но и вообще написана разными мастерами последних десятилетий XIV – начала XV века, то и выводы историка придется трактовать иначе5.
Археографическое описание визуального источника
Любое использование визуального источника в историческом исследовании ставит и задачу его корректного археографического описания. Отчасти эта проблема уже рассматривалась мною на материале лицевых рукописей [9], поэтому здесь я ограничусь только несколькими общими замечаниями. В настоящее время существуют две основные формы описания изображений: 1) представленная в каталогах-резоне произведений одного художника или музейной коллекции исчерпывающая на данный момент информация, включающая краткую аннотацию, данные о датировке, размере, технике, участии в выставках, библиографические ссылки на упоминания в справочной и исследовательской литературе, провенанс6; 2) краткие каталожные данные, используемые в подписи к воспроизведению изображения в исследовании и / или в прилагаемом к нему списке визуальных (изобразительных) источников. В последние годы в книгоиздании наметилась тенденция дрейфа от второго варианта к первому, но оптимальная форма археографического описания визуального источника все еще нуждается в профессиональном обсуждении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, современный социокультурный и эпистемологический контекст исторического знания провоцирует профессиональных историков к более широкому использованию визуальных источников. Поэтому необходимо методологическое осмысление изображений как иного, по отношению к письменным источникам, дискурса, обладающего самостоятельным информационным потенциалом и использующего оригинальные способы кодировки информации. Очевидно, что для получения верифицируемых результатов нужно разрабатывать, совершенствовать и профессионально обсуждать методы источниковедческого анализа визуальных источников и их археографического описания.
Список литературы Визуальный источник: перспективы, проблемы и ограничения использования информационного ресурса
- Гинзбург К. Загадка Пьеро: Пьеро делла Франческа. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 216 с.
- Епишин А. С. Революционные архетипы в произведениях русской живописи 1880-1910-х годов. Эволюция образов // Человек и культура. 2012. № 1. С. 188-205 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-notabene.ru/ca/article_95.html (дата обращения 15.12.2022).
- Мазур Л. Н. Визуальный поворот в исторической науке: от текста к образу // Роль изобразительных источников в информационном обеспечении исторической науки: Сборник статей. М.: Нестор-История, 2019. С. 52-72.
- Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 358 с.
- Медушевская О. М. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины - источниковедение - методология истории в системе гуманитарного знания: Материалы XX Междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. - 2 февр. 2008 г.: В 2 ч. М.: РГГУ, 2008. Ч. 1. С. 24-34.
- Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья. СПб.: Александрия, 2019. 448 с.
- Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева (Некоторые проблемы): Древнерусская живопись как исторический источник. М.: МГУ, 1974. 160 с.
- Сукина Л. Б. Визуальные источники русского Средневековья в историческом исследовании: некоторые методологические наблюдения // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2020. Т. 4, №. 4. С. 113-132.
- Сукина Л. Б. Лицевые рукописи в музейных собраниях: задачи и проблемы археографического описания // Археография музейного предмета: Материалы Междунар. науч. конф. Москва, 16-17 марта 2012 г.; Отв. ред. Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков, М. Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2012. С. 167-170.
- Черкасова М. С. Купец Г. М. Фетиев: исследование и архив. Вологда: Древности Севера, 2020. 256 с.
- Шмидт С. О. О классификации исторических источников // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1985. Т. 16. С. 3-24.