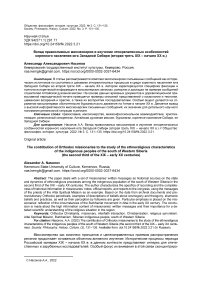Вклад православных миссионеров в изучение этнорелигиозных особенностей коренного населения юга Западной Сибири (вторая треть XIX - начало XX в.)
Автор: Насонов Александр Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается комплекс миссионерских письменных сообщений как исторических источников по состоянию и динамике этнорелигиозных процессов в среде коренного населения юга Западной Сибири во второй трети XIX - начале XX в. Автором характеризуются специфика фиксации и полнота исторической информации в миссионерских записках, рапортах и докладах на примере сообщений служителей Алтайской духовной миссии. На основе данных архивных документов и дореволюционной православной периодической печати приводятся примеры описаний представлений о космогонии и теогонии, шаманских воззрений и практик, а также их восприятия последователями. Особый акцент делается на отражении миссионерами обстоятельств бурханистского движения на Алтае в начале XX в. Делается вывод о высокой информативности миссионерских письменных сообщений, их значении для детального научного понимания религиозной ситуации в регионе.
Православие, миссионерство, межконфессиональное взаимодействие, христианизация, религиозный синкретизм, алтайская духовная миссия, бурханизм, коренное население сибири, юг западной сибири
Короткий адрес: https://sciup.org/149140182
IDR: 149140182 | УДК: 94(571.1):291.71
Текст научной статьи Вклад православных миссионеров в изучение этнорелигиозных особенностей коренного населения юга Западной Сибири (вторая треть XIX - начало XX в.)
Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово, Россия, ,
Kemerovo State University of Culture, Kemerovo, Russia, ,
ван на тесной связи миссионерской деятельности с трансформацией локальных этнических сообществ в условиях социально-политических и культурных изменений рубежа XIX–XX вв., поскольку эти процессы демонстрируют формирование уникальных социокультурных явлений. Одной из проблем выступает поиск исторических свидетельств, позволяющих объективно реконструировать все многообразие происходивших событий. Миссионерское служение способствовало появлению ряда исторических источников, информационный потенциал которых до сих пор востребован в научном сообществе.
Важнейшую роль в освоении азиатской части Российского государства сыграли церковные служители. В советский период с позиций классового подхода православные проповедники определялись как проводники политики царского правительства в области русификации коренного населения. Авторами раскрывались жесткие методы проповеднической работы (Потапов, 1948: 361–373). С середины 1980-х гг. оценки стали менее категоричными, иллюстрируя более сложную картину организованного распространения православия на юге Западной Сибири. Так, А.М. Сагалаев в русле сложившегося в исторического науке подхода отмечал жесткость методов христианизации и русификации, но вместе с тем указывал на сложные обстоятельства процесса укоренения христианских постулатов и образа жизни в среде коренного населения и нарастающую конкуренцию со стороны различных направлений других мировых религий (Сагалаев, 1984: 122–126). На рубеже XX–XXI вв. историческая проблематика миссионерской деятельности была актуализирована процессом восстановления позиций Русской православной церкви в российском обществе. На сегодняшний день сложилась обширная историография по этой проблематике (Вожакова, 2018). Современные авторы описывают миссионерскую деятельность, используя преимущественно положительные характеристики (Софронов, 2005; Крейдун, 2008; Тресвят-ский, 2013). В поле зрения исследователей попадают различные аспекты, связанные с миссионерским служением, а также смежные вопросы духовного развития в контексте социокультурного влияния православия (Храпова, 2012; Николаев, Самушкина, 2015; Насонов, 2019; White, 2020). В последние годы особое внимание авторов сосредоточено на сопутствующих непосредственной миссионерской деятельности культурных процессах, в частности отражении и осмыслении миссионерами данных о духовной жизни, семейно-родственных отношениях и хозяйственной деятельности коренного населения.
Следует заметить, что на практике наблюдалась вариативность сценариев государственноцерковных отношений. В зависимости от конкретных обстоятельств интересы властей и священнослужителей могли совпадать, но и иногда быть противоположными. Государство было заинтересовано в постепенном изменении образа жизни и поведения коренного населения, административные меры в данном случае были бесполезны. Миссионерское воздействие позволяло на основе подбора приемов и способов на протяжении продолжительного назидания этого добиться. Постепенно укоренившись в социально-культурном пространстве и вовлекшись в хозяйственные практики конкретных территорий, духовные миссии приобрели собственные интересы. В этих условиях были предприняты попытки миссионерских сообществ манипулировать губернскими и местными властями для достижения вероисповедных целей и борьбы с прозелитизмом.
Вторая треть XIX – начало XX в. оценивается как период расцвета миссионерской деятельности служителей Русской православной церкви. В предшествующее столетие положение церкви значительно изменилось. Сначала была утрачена политическая самостоятельность вследствие административного подчинения императорской власти после отмены патриаршества и учреждения Святейшего синода в 1721 г. Позже церковь была лишена экономической основы в виде земельных владений в ходе секуляризации 1764 г., инициированной Екатериной II. Вместе с тем указанные события хоть и повлияли на позиции Русской православной церкви, но скорее определили, в каких сферах жизни общества интересы государства приоритетны, а в каких направлениях активно может действовать сама церковь. Политические и социально-экономические рамки, наложенные преобразованиями XVIII в., в некоторой степени позитивно повлияли на развитие церкви в XIX – начале XX в. Одним из таких результатов является концептуальное осмысление и совершенствование навыков миссионерской деятельности. Именно в XIX в. она приобрела в Сибири организованный характер, что нашло отражение в организации постоянно действующих духовных миссий.
Православные миссионеры оставили наследие в виде обширного корпуса исторических источников, на сегодняшний день частично опубликованных в сборниках документов, но главным образом сосредоточенных в фондах федеральных и региональных архивов. Наиболее информативными источниками для характеристики вклада православных миссионеров в изучение этнорелигиозных особенностей коренного населения юга Западной Сибири выступают записки, рапорты и доклады. Из них наиболее распространенным документами являются записки, характеризующиеся свободным изложением основных обстоятельств миссионерского служения. Особое внимание в записках уделялось трудностям проповеднической работы, препятствующим усвоению христианских постулатов и образа жизни.
Подробно анализируя этот центральный аспект своей деятельности, миссионеры вникали в социальные проблемы коренных жителей, отражали причины конфликтов с крестьянами-переселенцами, описывали их религиозные представления. По своему содержанию записки сочетали признаки делопроизводственной документации с документами личного происхождения. При их составлении авторы могли выходить за пределы обязательных тем, упоминая аспекты, которые представлялись им важными. В связи с этим записки могли включать ценные для последующего научного изучения сведения, описывать конкретные ситуации, необязательно имевшие отношение к миссионерской деятельности.
Наиболее информативные записки и близкие к ним по содержанию материалы публиковались в православной периодической печати. Эта практика способствовала более широкому распространению миссионерского опыта, приглашала заинтересованных лиц к обсуждению проблемных вопросов, возникавших в ходе служения. В результате сформировался массив специфических исторических источников, отраженных на страницах таких изданий, как «Православный благовестник», «Православный собеседник», «Томские епархиальные ведомости» и др.
Более строгими по структуре и содержанию документами были рапорты. Отдельные события требовали особого внимания со стороны руководства православных миссий. Начальствующие иерархи должны были иметь исчерпывающую информацию для рассмотрения важнейших обстоятельств, принятия грамотных управленческих решений. Следовательно, авторы рапортов должны были придерживаться четкости и конкретности в изложении информации при отражении объективных обстоятельств происходящих событий и явлений.
Однако служители миссий не только фиксировали информацию, полученную эмпирическом путем, но и готовили аналитические материалы. Примером таких документов являлись миссионерские доклады. Одной из форм коллективного обсуждения развития миссионерской деятельности был миссионерский съезд. Традиционно на нем рассматривались приемы осуществления проповеднической работы в среде коренного населения, вопросы противодействия конкурирующим учениям и их адептам. Авторы миссионерских докладов аналитически обобщали опыт проводимой работы, анализировали результативность своей деятельности.
После учреждения в 1828 г. и открытия в 1830 г. Алтайской духовной миссии, на которую были возложены функции распространения христианского вероучения и просвещения населения юга Западной Сибири, началось изучение традиционных религиозных воззрений православными миссионерами. Протоиереем Стефаном Ландышевым были подробно описаны духовные представления о сотворении мироздания и возникновении темных и светлых богов и духов у алтай-цев1 (Ландышев, 1886: 308–326). Эти сведения в последующем уточнялись другими миссионерами и позже этнографами, которые фиксировали локальные вариации космогонии и теогонии. Однако именно С. Ландышев положил начало изучению сложной религиозной картины мира коренных жителей Алтая.
Наибольший вклад православные миссионеры внесли в изучение традиционных религиозных представлений коренного населения юга Западной Сибири. Однако специфика фиксации данной информации зависела от практических задач проповеднической работы. Главным образом внимание служителей миссий было сосредоточено на детальном описании сути шаманских воззрений и практик. Это было продиктовано тем фактом, что именно в лице шаманов миссионеры встречали основных духовных оппонентов в процессе распространения христианского вероучения. Так, В.И. Вербицкий, служитель Алтайской духовной миссии, внесший значительный вклад в изучение народов Горной Шории и Алтая, детально описал шаманские практики. Эти сведения были получены миссионером при непосредственном общении с шаманами и представителями коренного населения, участвовавшими в отправлении культов. Особо значимыми стали данные В.И. Вербицкого о структуре трехуровневого деления мира в шаманских верованиях, а также обрядовых действиях, совершаемых при взаимодействии шаманов с добрыми и злыми духами. Миссионер также описал обстоятельства и способы обретения шаманских способностей (Вербицкий, 2008: 63–67).
Служителями Алтайской духовной миссии была зафиксирована интересная особенность религиозного мировоззрения коренных жителей – утилитарная ориентированность совершения обрядовых действий. Миссионер Стефан Борисов в записке, датированной 1902 г., описал обстоятельства ситуации, сложившейся вокруг Мочаан, представительницы коренного населения. Находясь на смертном одре, она изъявила желание принять обряд крещения с целью получить «избавление от мук и возможного исцеления». Священник пояснял, что от него и от обрядового действия Мочаан ожидала по аналогии с шаманскими практиками практического результата, осуществления знахарства. Стефан Борисов в этой связи подчеркивал кардинальное отличие своей роли от действий шамана, поясняя, что «крещение может духовно облегчить страдание», но этот обряд не гарантирует исцеления. Шаман же, по мнению миссионера, использовал такие ситуации для обогащения и упрочения духовного влияния1.
Вместе с тем шаманский компонент в традиционном комплексе религиозных представлений коренного населения занимал одну из центральных позиций, но не являлся единственным. Родовые культы, сезонная, промысловая и семейная обрядность получили в записках миссионеров фрагментарное освещение. В итоге основы изучения духовной культуры, заложенные миссионерами относительно шаманских верований, были дополнены в первой трети XX в. результатами академических экспедиционных изысканий этнографов.
Отражая религиозную картину мира и комплекс обрядовых действий, связанных с шаманскими практиками, миссионеры описывали сложившиеся формы, которые в отдельных аспектах уже приходили в упадок, постепенно разрушаясь. Однако на рубеже XIX–XX вв. служителями Алтайской духовной миссии было зафиксировано нарождающееся религиозное явление, публично проявившееся в 1904 г. Территория юга Западной Сибири, находясь на пересечении направлений взаимодействия восточных и западных культур, традиционно была этноконтактной зоной и регионом переплетения различных религиозных учений. В рассматриваемое время под влиянием внешних факторов интенсивность воздействия различных направлении мировых религий на население усилилась. Алтайская духовная миссия выступала инструментом распространения православного христианства, встречая конкуренцию со стороны адептов северного буддизма в виде бурханистского движения (Насонов, 2016: 239–240). Миссионеры стали очевидцами развернувшихся событий и активно характеризовали новые религиозные проявления в жизни коренного населения, создавая корпус важных исторических источников.
Сообщения миссионеров отразили обстоятельства публичной массовой демонстрации бурханистских воззрений и ритуалов. Изначально служители миссии указывали на буддийское происхождение основных постулатов этого религиозного течения, преувеличивая потенциал его прозелитизма2.
Позже миссионеры сообщали об упрочившихся позициях бурханизма на рубеже 1900– 1910-х гг., в частности о вытеснении шаманских ритуалов. Так, епископ Иннокентий утверждал, что усиление нового вероучения в 1908 г. на юго-западе Алтая привело к ухудшению положения последователей прежних шаманских практик (Иннокентий, 1909: 330–331). Миссионер Тимофей Петров в 1909 г. указывал на то, что большая неприязнь наблюдалась между приверженцами бурханизма и шаманизма, чем в отношении христианских догматов и обрядов3. Вместе с тем от служителей бурханизма ярлыкчи представители коренного населения ожидали исполнения духовных функций, традиционно выполняемых шаманами, в частности знахарства. Описание этого явления привел в записке псаломщик Алексей Нелюбин4.
Таким образом, вклад православных миссионеров в изучение этнорелигиозных особенностей коренного населения юга Западной Сибири можно характеризовать как значительный. Благодаря служителям Русской православной церкви сегодня исследователи располагают обширным корпусом разнообразных по содержанию исторических свидетельств (записками, рапортами, докладами и т. д.). Безусловно, как любой письменный источник, данные документы требуют кропотливого изучения, сопоставления и критики, однако само их количество позволяет выявить ведущие тенденции трансформации религиозной ситуации в этом регионе.
Список литературы Вклад православных миссионеров в изучение этнорелигиозных особенностей коренного населения юга Западной Сибири (вторая треть XIX - начало XX в.)
- Вербицкий В.И. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии / сост. И. Кропочев. Новокузнецк, 2008. 372 с.
- Вожакова М.С. Распространение православия на территории Саяно-Алтая во второй четверти XIX - начале XX в. в трудах российских исследователей // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2018. № 3. С. 88-102.
- Иннокентий, епископ. Алтайская миссия за 1908 г. // Православный благовестник. 1909. № 8. С. 327-336.
- Крейдун Ю.А. Алтайская духовная миссия в 1830-1919 гг.: структура и деятельность. Москва, 2008. 200 с.
- Ландышев С.В. Космогония и теогония алтайцев-язычников // Православный собеседник. 1886. № 3. С. 308-334.
- Насонов А.А. Миссионерские стратегии православных и буддийских адептов на юге Западной Сибири (рубеж XIX-XX вв.) и особенности межконфессионального взаимодействия // Научный диалог. 2016. № 3 (51). С. 233-244.
- Насонов А.А. Православное миссионерство в межконфессиональном взаимодействии на юге Западной Сибири во второй трети XIX - начале XX в. // Самарский научный вестник. 2019. Т. 8, № 1 (26). С. 170-174.
- Николаев В.В., Самушкина Е.В. Алтайская духовная миссия и просвещение коренного населения предгорий Северного Алтая // Религиоведение. 2015. № 4. С. 21-29.
- Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948. 506 с.
- Сагалаев А.М. Христианизация алтайцев в конце XIX - начале XX в. (методы и результаты) // Этнография народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 120-127.
- Софронов В.Ю. Три века сибирского миссионерства. Миссионерская и духовно-просветительская деятельность Русской православной церкви в Западной Сибири (конец XVII - начало XX в.). Тобольск, 2005. 140 с.
- Тресвятский Л.А. Влияние православной культуры на духовную жизнь в Сибири в XVII - начале XX в. Томск, 2013. 302 с.
- Храпова Н.Ю. Роль Алтайской духовной миссии в формировании социокультурного пространства в Горном Алтае во второй половине XIX - начале XX в. // Социология в современном мире: наука, образование, творчество. 2012. № 4. С. 110-117.
- White J. M. Edinoverie, Russian Orthodoxy and Ecclesiastical Authority at the End of the Imperial Regime // The Russian Review. 2020. Vol. 79 (2). P. 185-203. http://doi.org/10.1111/russ.12262.