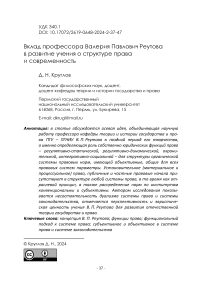Вклад профессора Валерия Павловича Реутова в развитие учения о структуре права и современность
Автор: Круглов Д. Н.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается осевая идея, объединяющая научную работу профессора кафедры теории и истории государства и права ПГУ - ПГНИУ В. П. Реутова в поздний период его творчества, а именно определяющая роль собственно юридических функций права - регулятивно-статической, регулятивно-динамической, охранительной, интегративно-социальной - для структуры органической системы правовых норм, имеющей объективные, общие для всех правовых систем параметры. Установительное (материальное и процессуальное) право, публичные и частные правовые начала присутствуют в структуре любой системы права, в то время как отраслевой принцип, а также распределение норм по институтам конвенциональны и субъективны. Автором исследования показывается несостоятельность дуализма системы права и системы законодательства, отмечается перспективность и эвристическая ценность учения В. П. Реутова для развития отечественной теории государства и права.
Концепция в. п. реутова, функции права, функциональный подход к системе права, субъективное и объективное в системе права и системе законодательства
Короткий адрес: https://sciup.org/147244113
IDR: 147244113 | УДК: 340.1 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-2-37-47
Текст научной статьи Вклад профессора Валерия Павловича Реутова в развитие учения о структуре права и современность
С убъективные и объективные факторы, влияющие на формирование системы права, до сих пор требуют прояснения и фундаментального обоснования в рамках теории государства и права. Три научные дискуссии на эту тему, которые пережили советские теоретики права (в конце 1930‐х, середине 1950‐х и в 1970‐х годах), казалось, сформировали определенный научный консенсус, однако действующий в настоящее время классификатор правовых актов1 не в полной мере этот консенсус выражает и выглядит как порождение бюрократической мысли, всецело подчиненной техническим по‐ требностям обмена автоматизированной информацией между ведомствами.
Для нас очевидна своевременность постановки вопроса о приемлемости гос‐ подствующего мнения об основах отраслевого деления права и принципах его структурирования.
Профессор кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного университета (с 2011 года Пермского государственного на‐ ционального исследовательского университета, ПГНИУ) Валерий Павлович Реутов (1939–2017) долго и плодотворно занимался этой темой, посвятил ей свою докторскую диссертацию2, развивал альтернативные мейнстриму идеи, хорошо верифицируемые на эмпирическом материале.
Когда В. П. Реутов начинал свою научно‐педагогическую карьеру, ка‐ федрой теории и истории государства и права в ПГУ руководил выдающийся ученый, впоследствии доктор юридических наук А. А. Ушаков. Его занимали проблемы юридической техники, он много сделал для ее институционали‐ зации в качестве теоретической и прикладной дисциплины юриспруденции – широко известна его книга «Очерки советской законодательной стилистики»3. Одной из целей научной активности А. А. Ушакова, к которой он неуклонно продвигался год от года, было построение «идеального» законодательного кодекса, объединяющего все отрасли и институты права и основанного на системе права. Последняя есть «объективная категория, не зависящая ни от воли законодателя, ибо сама воля законодателя объективно обусловлена, ни от каких‐либо других субъективных факторов... это закономерность, лежащая в основе всего правового строя, и задача науки именно в том и состоит, что‐ бы открыть ее и поставить на службу обществу»4. Еще будучи доцентом, А. А. Ушаков отвергает предмет правового регулирования как надежный кри‐ терий деления права на отрасли и ратует за «методный» подход в сочетании с исторически обусловленным «способом государственного регулирования общественных отношений»5. Принципы построения системы права должны быть таковы, что их применение даст результаты, подобные расположению элементов в таблице Менделеева. Одно и то же свойство, присутствующее в критерии, в соответствующем модусе должно указывать на структурный элемент в праве. Например, отрасли права, по мнению А. А. Ушакова, обра‐
КРУГЛОВ Д. Н. ___________________________________________________________________ зуются конституционным, дисциплинарным, административным, уголовным, гражданским и международным правовыми методами регулирования6.
Как видится, В. П. Реутов разделял пафос своего старшего коллеги о систематике права как о центральной, «сердцевинной» составляющей юрис‐ пруденции. Но ни «предметный», ни «методный», ни «предметно‐методный» подходы не решали тех задач, которые были средоточием его размышлений. А именно: а) каковы объективные и субъективные факторы, порождающие структуру права; б) каково соотношение системы права и системы законода‐ тельства; в) чем обусловлено деление права на частное и публичное; г) какова динамика отраслевой дифференциации; д) чем все‐таки обусловлена такая широкая популярность «предметно‐методной» парадигмы, несмотря на ее очевидные недостатки; е) как образуются «комплексные» отрасли и межот‐ раслевые институты в праве; ж) как работают такие разновидности диспози‐ тивного метода, как общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования.
Закрепленное в научной традиции «вертикальное» деление системы норм права было подвергнуто В. П. Реутовым основательной критике. Обзор истории развития национального права и сравнение его с иными правовыми системами показывают: в структуре права разных государств в разные эпохи гораздо больше различий, чем сходств. Так, римское право базировалось на различении публичного и частного, разделяя, в свою очередь, каждую под‐ систему на части, связанные с правом народов и цивильным (квиритским) правом. Для средневекового европейского права, а также ряда правовых систем, связанных с церковными и церковно‐государственными учрежде‐ ниями, существенным было деление права на светское и различные виды того, что мы могли бы назвать каноническим. Правовые системы, восходив‐ шие к иным историческим источникам, нежели романо‐германская тради‐ ция, не восприняли публично‐частные начала права как что‐то системообра‐ зующее, да и отраслевое деление не играло в них сколько‐нибудь сущест‐ венной роли. Дуализм частного права, выразившийся в упорядочении торговых сделок (обособлении торговых кодексов), также был явлением вроде бы исторически закономерным, выросшим из экономического базиса раннего капиталистического уклада, однако присутствовал далеко не везде. Например, Свод законов Российской империи 1857 года, содержавший толь‐ ко нормы действующего позитивного права, имел строение, нацеленное единственно на экономный поиск нормативных предписаний. В одном и том же томе (разделе) были собраны законоположения о почте и телеграфе и сельском хозяйстве (XII том) или о вероисповеданиях и торговле (XI том), и это в акте, который считается кодифицированным.
Отдельные отрасли и институты возникают и отмирают, и единствен‐ ный принцип, который направляет этот процесс, – некие «исторические усло‐ вия», генерирующие то один, то другой «предмет правового регулирования». Если Российская империя не могла обойтись без «полицейского права», то социалистическая республика – без «колхозного» и «хозяйственного». Воз‐ можно ли обнаружить объективный принцип, который детерминировал бы правовую структуру всеобщим и необходимым образом? Оказывается, этот принцип уже давно известен, однако его научная рефлексия не проведена должным образом. На наш взгляд, наиболее последовательно и корректно это было проделано как раз В. П. Реутовым.
Если означенный принцип является объективно всеобщим, то он дол‐ жен пронизывать всю систему права, начиная с его, так сказать, «молекулы», которую метафорически именуют «элементарной клеткой» права. Еще С. С. Алексеев доказывал, что полная логическая структура правовой нормы должна иметь гипотезу, диспозицию и санкцию. Конечно, отдельные норма‐ тивные предписания, содержащиеся в правовых текстах (несущественно да‐ же, имеют они письменную или устную форму закрепления), могут содер‐ жать и два элемента, относиться к разным логическим нормам, вообще не иметь форму законченного высказывания. Однако если мы имеем дело с вы‐ сказыванием, регулирующим волевым образом обусловленное поведение человеческого существа, то оно должно содержать указание на образ дейст‐ вия (или дозволять, или обязывать, или запрещать) и, чтобы быть общим правилом, еще и условие, при котором этот образ действия реализуется, то есть диспозицию и гипотезу. При этом правовая норма, в отличие от мораль‐ ной или этикетной, сущностно связана с возможными последствиями ее реа‐ лизации и так или иначе включает в себя указание на санкцию. Любое пра‐ вило поведения, имеющее юридическое содержание, представляет собой синкретическое единство как минимум двух предписаний, одно из которых устанавливает правило, а другое – запрещает его нарушать.
Отмечая последнее обстоятельство, Н. М. Коркунов делил нормы на властные веления двух видов: одни состоят из гипотез и диспозиций, дру‐ гие – из диспозиций и санкций. «Гипотеза и диспозиции, – писал Коркунов, – суть необходимые элементы каждой юридической нормы, следовательно и законов уголовных, определяющих наказуемость преступных деяний. <...> ...В современном законодательстве обыкновенно нет особых постановлений, устанавливающих запрещение преступных деяний. О запрещенности деяния заключают лишь из его наказуемости. Поэтому первая часть уголовного зако‐ на, кроме определения условий применения наказания, указанного во вто‐ рой части, содержит в себе еще, так сказать, и диспозицию другой нормы – нормы, устанавливающей запрещение преступного деяния. Вот почему кри‐ миналисты называют обыкновенно первую часть уголовного закона диспо‐ зицией. Что касается второй части уголовных законов, то ее обыкновенно на‐ зывают санкцией»7. О том же самом, но в другом контексте говорил в своем «Руководстве к познанию законов» и М. М. Сперанский: «Все законы, как ес‐ тественные, так и общежительные, как внутренние, так и внешние, или уста‐ навливают правило, или охраняют его. Первые суть законы запретительные или повелительные; вторые суть законы охранительные. Те и другие иногда выражаются совокупно, иногда же отдельно, и в сем последнем виде они делятся на разные разряды»8.
Очевидно, что и властные веления (по Н. М. Коркунову), и виды зако‐ нов (по М. М. Сперанскому) специфицированы по одному и тому же принци‐ пу – функциональному. Функции права как объективное выражение его сущ‐ ности действуют уже на самом низовом уровне системы – уровне правовой нормы. Неслучайно полная логическая норма создает условия для реализа‐ ции в комплексе функций, которые принято именовать собственно юридиче‐ скими. Они и делят всю систему права на две подсистемы – регулятивную и охранительную. Эти подсистемы существуют независимо от признания или непризнания их властями или научным сообществом и обязательно получают свою легитимацию в развитых правовых системах. Можно также констатиро‐ вать эмпирическую историческую зависимость: чем более развитым с юриди‐ ко‐технической точки зрения является законодательство, тем более выражен, так сказать, «дистинктивно‐синкретический» характер его отраслей. Архаиче‐ ское догосударственное устное право, естественно, не могло иметь отраслевой дифференциации, однако в нем уже отчетливо отделяются регулятивные пра‐ вила обмена товарами, женщинами, рабами и прочими благами от наказаний, как трансцендентных, так и личных и имущественных, следующих за запре‐ щенными деяниями. Если в текстах законов Моисея эти разные виды предпи‐ саний располагаются хаотически, то уже Хаммурапиевы законы имеют хорошо фиксируемую структуру. Последняя, очевидно, задается логикой разворачива‐ ния собственно юридических функций права: сперва регулятивно‐динами‐ ческой – показывается источник внешней легитимности всего кодекса и поря‐ док применения норм, затем регулятивные статические нормы составитель одного из самых знаменитых юридических текстов в истории сопровождает охранительными.
Функциональная дифференциация нормативной системы является двухуровневой, точнее, двунаправленной. Это обусловлено двумя группами ее функций. Первая группа, работая «изнутри» права, посредством норма‐ тивных предписаний, обеспечивает правовое регулирование поведения, задает регулированию формальную определенность. На наш взгляд, «фор‐ мальная определенность» не столько формальна, сколько содержательна. Сам термин в данном случае не слишком удачен. Право является формаль‐ но определенным вовсе не потому, что имеет форму, но потому, что его имманентное свойство – способность максимально четко, насколько это возможно посредством разных знаковых систем, определять границы сво‐ боды внешнего волеизъявления. Логическая структура права позволяет не только указать желательное для человеческих сообществ направление это‐ го волеизъявления (для этого достаточно морали или этикета), но и описать его границы для максимального круга гипотетических ситуаций. Внешние формы выражения правовых норм ничем не отличаются от форм морали. Последняя может быть писаной или устной, существовать в виде обычая или кодекса, изречения влиятельного лица или договоренности между ли‐ цами или коллективными субъектами. Однако индивидуализация общего предписания и реализация правила в общественно значимом поведении не могут быть здесь оценены настолько точно, насколько это допускает право‐ вое регулирование. Если поведение подпадает под нормативное регулиро‐ вание, то при учете минимума известных обстоятельств можно точно опре‐ делить его правомерность, а вот границы нравственного и безнравст‐ венного такой определенностью не отличаются, поэтому и не могут быть формализованы и, как следствие, систематизированы. Мораль, как и право, обладает регулятивной функцией, но только статической, поскольку не об‐ ладает процессуальным механизмом приведения норм в действие. Что до охранительной функции, то нам неизвестны нравственные «системы», ко‐ торые отличались бы сбалансированным процессуальным порядком реали‐
КРУГЛОВ Д. Н. ___________________________________________________________________ зации и определенностью (ограниченностью) санкций, а сами санкции вооб‐ ще имеют главным образом трансцендентный или виртуальный характер.
Итак, собственно юридические функции, или функции правового регу‐ лирования, следуют из формальной определенности права. Другое «направ‐ ление» имеют функции правового воздействия. Они не вытекают напрямую из логической структуры права, но обусловлены его социальной ролью в це‐ лом. Профессор В. П. Реутов полагал социальным назначением права приве‐ дение в порядок («гармонизацию») общественных отношений. В этом его позиция была созвучна российской юридической традиции, где право есть «исторически подвижное определение необходимого принудительного рав‐ новесия двух нравственных интересов – личной свободы и общего блага»9 или «разграничение интересов»10. Даже так называемая «воля господствую‐ щего класса», которую советский марксизм обнаруживал как сущностное и глубинное в любом праве, выражает классовый интерес, а стало быть, тоже вписывается в эту традицию. Так что индивидуальное и коллективное в праве всегда связываются, задавая его разделение на публичное и частное. Наме‐ рения изгнать из права какое‐либо из этих начал со стороны коммунистов или либертарианцев противоречат внутренним необходимым связям в праве и потому есть пустая декларация.
Функции правового воздействия не являются имманентными системе права как органической совокупности норм. Тут активной силой, направлен‐ ной на поведение человеческих личностей и коллективов, является вся пра‐ вовая система в целом. В свою очередь, объект воздействия – некоторая сфера человеческой деятельности, границы коей заданы фундаментальными человеческими потребностями, такими как производство средств к сущест‐ вованию, обеспечение сосуществования в рамках иерархий социальных групп, справедливое управление, творческое самовыражение и трансляция знаний. В каждой из сфер имеется определенное сходство социальных регу‐ ляторов, в том числе предметов правового воздействия. Последние лежат в основе отраслевой дифференциации права. Очевидно, что на экономиче‐ скую сферу воздействует гражданское и предпринимательское право, на социально‐групповую – семейное, трудовое и социально‐обеспечительное, на политическую – конституционное, на культурную – образовательное и ав‐ торское. Религиозный характер некоторых традиционных обществ некогда
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ обусловливал вторжение церковного права во все эти сферы и придавал ему интегрирующее свойство; неслучайно средневековое университетское обра‐ зование подразумевало не только наличие богословского факультета, но и каноническую квалификацию у каждого остепененного юриста11. В совре‐ менных светских правовых системах осталось лишь регулирование деятель‐ ности религиозных организаций как субъектов гражданского права и обеспе‐ чение религиозных свобод в рамках конституционных прав.
Таким образом, деление права на отрасли является внешним, «при‐ входящим» по отношению к внутреннему строению права явлением. Сам предмет правового воздействия, хотя и отражает объективную социальную реальность, является субъективным способом ее познания и конструирования. Общественная сфера перерабатывается и преобразуется в научном правосоз‐ нании и только в нем становится социальным фактом. Отсюда, как нам видит‐ ся, и происходят возражения В. П. Реутова против дуализма системы права и системы законодательства, развиваемого многими представителями отече‐ ственной правовой науки: «Сторонникам признания параллельного сосущест‐ вования двух самостоятельных систем, отражающих содержание права, никак не удается объяснить механизм превращения отрасли законодательства в отрасль права, выявить критерии, которые могли бы свидетельствовать о по‐ явлении на базе отрасли законодательства полноценной отрасли права»12. Объект правового регулирования (социальная связь, проявляющаяся в пове‐ денческих актах) относится к той или иной сфере опосредованно, через позна‐ ние и правотворческое правосознание субъекта, отправной точки правовой системы. Профессор отмечает: «Среди субъективных факторов, влияющих на процесс формирования отраслей права и их признание, можно назвать такие, как уровень подготовки законодателей, других лиц, принимающих участие в правотворческом процессе, уровень научной разработанности проблемы, активность конкретных носителей, их идей и взглядов»13.
Правосознание создает мысленный собственный образ предмета пра‐ вового воздействия как совокупности однородных связей и группирует нор‐ мы по институтам и отраслям. Деление права на отрасли и институты есть не что иное, как произведение коллективного сознания, конструкция разума, упорядочивающего систему права таким образом, что она становится при‐ годной для осмысления и практического употребления. Убежденность в ис‐ тинности того, что гражданское право, уголовное, трудовое и администра‐ тивное являются отраслями, покоится на устойчивом консенсусе ученых и лиц, профессионально занятых юридической практикой. Зато дискуссия, на‐ пример, о «социально‐обеспечительном» праве (о том, имеет ли оно собст‐ венный предмет и метод, существует ли оно объективно как отрасль права, не будучи признанным как отрасль законодательства, является ли оно под‐ отраслью трудового или административного права или совокупностью инсти‐ тутов, распределенной по другим отраслям) обречена продолжаться столько времени, сколько понадобится для достижения консенсуса при условии со‐ хранения интереса к этому вопросу со стороны научного и профессионально‐ го юридического сообщества. Иначе придется признать, например, наличие хозяйственной, а также госуправленческой отраслей законодательства, не являющихся отраслями права, поскольку они входят в общий перечень офи‐ циального классификатора правовых актов в одном ряду с семейной, финан‐ совой, экологической и другими общепризнанными отраслями. Практиче‐ ское значение такого дуализма имело бы смысл, если бы отрасль права существовала объективно и требовала бы упорядочения законодательства. Однако административное право, не будучи ни упорядоченным, ни коди‐ фицированным, имеет статус и отрасли права, и отрасли законодательства, что порождает сомнения в практической пользе такого дуализма. Тем более что составители упомянутого классификатора исходили из приоритета удоб‐ ства практического пользования, а уже во вторую очередь – из соответствия действующему законодательству14.
Стереотипы «предметно‐методного» подхода к системе права блестя‐ ще высмеяны в пародийном учебном пособии «Колбасное право Российской Федерации»15. Его авторы максимальным образом использовали все клише, распространенные в серьезных научных тестах. Тот, кто имел дело с моно‐ графиями и диссертациями, нацеленными на обоснование легитимации не‐ коей области права, будет вынужден признать полное сходство аргумента‐ ции пародии и ее многочисленных оригиналов. Направление теоретической юриспруденции, заданное профессором В. П. Реутовым, и в настоящее время помогает избежать ложных путей, ведущих не к научной истине, а к фальси‐ фицированным видам научного исследования. Эмпирическая верификация и логическое согласование тезисов о функциональной основе системы права действительно покоятся на закономерной связи юридических явлений, а не идеальных представлениях о ней, даже если последние уже стали общими местами, не подлежащими сомнению.
Список литературы Вклад профессора Валерия Павловича Реутова в развитие учения о структуре права и современность
- Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования / пер. с англ. М.: Изд‐во МГУ, 1994.
- Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. М.: Юрайт, 2023.
- Реутов В. П. Исследования по общей теории права: сб. науч. тр. / Перм. гос. нац. исслед. ун‐т. Пермь, 2015.
- Реутов В. П. Структурирование правовой системы как выражение ее функциональных возможностей: автореф. дис. ... д‐ра юрид. наук. Н. Новгород, 2004.
- Реутов В. П. Функциональная природа системы права. Пермь: Изд‐во Перм. гос. ун‐та, 2002.
- Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990.
- Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб.: Тип. Второго отд‐ния собств. Е.И.В. Канцелярии, 1845.
- Ушаков А. А. Избранное: Очерки советской законодательной стилистики. Право и язык. М.: РАП, 2008.
- Ушаков А. А. К вопросу о системе советского права // Ученые записки. Т. XIV, кн. 4, ч. 1 (Юридические науки) / Пермский гос. ун‐т им. А. М. Горького. Пермь, 1959. С. 45–75.