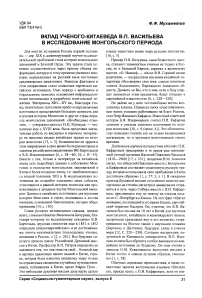Вклад ученого-китаеведа В. П. Васильева в исследование монгольского периода
Бесплатный доступ
В.П. Васильев вместе с Н.Я. Бичуриным и П.И. Кафаровым составляет знаменитую русскую триаду, которая использовала свое пребывание в Китае для тщательного изучения источников монгольского периода. Еще в 1857 г. ученый впервые на Западе обратил внимание на «Мэн-да бэй-лу» как на ценный источник по истории монголов, перевел его на русский язык и ознакомил с ним европейских ученых.
Короткий адрес: https://sciup.org/147150527
IDR: 147150527 | УДК: 94
Текст научной статьи Вклад ученого-китаеведа В. П. Васильева в исследование монгольского периода
Для многих историков России первой половины — сер. XIX в. доминирующей научно-исследовательской проблемой стала история монгольских завоеваний и Золотой Орды. Эта задача стала успешно осуществляться через призму объема информации, которую к тому времени увеличил комплекс переведенных на русский язык восточных средневековых памятников. Важным фактором в этом направлении стало появление переводов китайских источников. Они, наряду с арабскими и персидскими, являлись основными информационными комплексами в разработке монгольской тематики. Материалы ХШ—XV вв., благодаря этому, значительно дополняли арабо-и персоязычные источники и представляли большую ценность для изучения истории Монголии и других стран периода монгольских завоеваний. «Необходимо отметить, — утверждал синолог Н.Ц. Мункуев, — что, начиная еще с XVIII века, была проделана значительная работа по введению в научную литературу на западных языках китайских трудов по истории монголов» [13, с. 3]. Большинство их трудов в этом направлении в свое время были рассмотрены и оценены российскими академиками ВВ. Бартольдом и Б.Я. Владимирцевым [4, с. 38—60; 10, с. 8—15]. Вместе с тем, только в литературе на китайском языке есть подробные данные о собственно Монголии и господстве монгольских завоевателей в Китае в более позднюю эпоху, т.е. приблизительно со второй половины XIII в. В мусульманских источниках же подробно освещены лишь события, относящиеся к ранней истории монголов или происходившие в западных частях Монгольской империи. Ценность китайских источников для изучения истории Монголии и стран, входивших в состав империи, основанной Чингисханом, сегодня общепризнанна [14, с. 130].
Слава русского китаеведения связана, прежде всего, с именем Никиты Яковлевича Бичурина, благодаря которому по высказанному суждению В.В. Бартольда, «русская синология еще в 1851 и 1852 опередила западноевропейскую» и ее достижениями «почти исключительно пользовались ученые, писавшие в России...» [2, с. 261]. Все будущие синологи прошли школу Российской Духовной миссии в Китае. Профессор В.П. Петров определил ее значение в том, что она «внесла свой... богатый дар в научное хранилище наших знаний о Китае, стране, которая была известна западному миру только по отрывочным сведениям случайных путешественников, побывавших в Китае, вроде Марко Поло... Эта небольшая духовная миссия дала науке целую плеяду известных всему миру русских синологов» [16, с. 5].
Пример Н.Я. Бичурина, сына безвестного дьячка, ставшего знаменитым ученым не только в России, но и Западной Европе, заражал и вдохновлял многих. «О. Иакинф, — писал В.В. Горский своим родителям, — посредством изучения китайской литературы обессмертил свое имя; сделан почетным членом Лондонского, Парижского Азиатских обществ. Думаете ли Вы, что и мне, если я буду усердно заниматься этим предметом, будет отказано в европейской известности» [6, с. 228—229].
Но далеко не у всех честолюбивые мечты воплотились в жизнь. Одним из таких «счастливчиков», всю жизнь успешно работавшим на благо Родины, стал Петр Иванович Кафаров. Известный советский историк Б.Я. Владимирцов считал П.И. Кафарова «тонким и умелым знатоком источников по истории монголов» [10, с. 9 (прим. 4)]. Это обстоятельство позволяет считать его не только выдающимся китаеведом, но и крупным монголоведом своего времени.
Длительное научное путешествие в Китай с П.И. Кафаровым предпринял в то время еще начинающий ученый-китаевед Василий Павлович Васильев (1818—1900) [17, с. 231]. АкадемикВ.М. Алексеев писал, что «Василий Павлович вместе с Бичуриным и Кафаровым составляет знаменитую русскую триаду, которая использовала свое пребывание в Китае достойным образом» [1, с. 57; 3, л. 1]. В ожидании приезда Духовной миссии он успешно защитил диссертацию на степень магистра и намеревался отправиться в путь через Сибирь вместе с П.И. Кафаровым, приславшего ему по поводу их отъезда письмо из С.-Петербурга в Казань. На этот факт обратил внимание, посетивший в это время Казань, европейский тюрколог Кастрен. Он, отметив, что В.П. Васильев был послан на 10 лет в Китай для изучения монгольского, китайского и маньчжурского языков, пророчески предсказал ему и его коллегам, отправившимся на Восток также с научными планами (Березину и Диттелю), будущую славу в ученом мире [12, С. 229—230]. Согласно инструкции, полученной из Казанского университета, В.П. Васильев должен был обратить особое внимание на важнейшие источники по буддизму. Он «как ученик и эмиссар О.М. Ковалевского выполнил миссию в Китае честно и самым лучшим образом, гениально» [1, с. 58].
Обычные дорожные происшествия, а также совместные занятия восточными языками сблизили его, прежде всего, с П.И. Кафаровым, хотя он вна- чале с неприязнью относился к лицам духовного звания. После завершения работы Духовной миссии и возвращения в С.-Петербург для подготовки нового состава П.И. Кафаров задержался на похороны их соратника В .В. Горского. Перед отъездом он передал В.П. Васильеву все свои переводы из ‘f буддийских книг [18, с. 13,27—28].
В.П. Васильев идет непосредственно вслед за Иакинфом Бичуриным. «Но ему он противопоставил более глубокие знания и большую пользу отечественной науке... Переводы В.П. Васильева более надежны, чем у Бичурина» [1, с. 58]. Еще в 1857 г. ученый впервые на Западе обратил внимание на «Мэн-да бэй-лу» как на ценный источник по истории монголов, перевел его на русский язык и ознакомил с ним европейских ученых. «Мэн-да бэй-лу» («Полное описание монголо-татар») [8, с. 216—235] — самый древний источник по истории Монголии из сохранившихся записок путешественников первой половины XIII в. «Описание» представляет собой записку южносунского посла Чжао Хуна, побывавшего в Яньцзине в 1221 г. у главнокомандующего монгольскими войсками в Северном Китае — Мухали [14, с. 132]. Причем писал он только либо о том, что видел сам, либо о том, что знал из первых рук — с тем же Мухали он много беседовал и получил исключительные по ценности сведения. Видимо, его задачу облегчало его происхождение—Чжао Хун, по сведениям Чжоу Ми, автора сочинения второй половины XIII в. «Ци-дун е-юй» (Речи восточ-ноциского дикаря), был «и-лэй», то есть «породы варваров».
Эта работа известного ученого, разносторонне образованного востоковеда, являющегося автором многочисленных монографий и статей не только по китаеведению, но и в области монголоведения, буддологии и тибетологии, была единственным переводом указанного сочинения в мировой научной литературе, поэтому часто использовалась востоковедами и имела большое научное значение. Сочинение, представляющее собой комбинацию отчета и записей, которые велись во время пребывания у монголов, является миниэнциклопедией по всем аспектам их жизни. Именно потому, что оно затрагивает едва ли не все аспекты жизни монголов, его назвали «Полным описанием», несмотря на довольно небольшой объем самого текста.
Его книга, к которой приложены переводы китайских источников, в том числе «Мэн-да бэй-лу», стала в свое время интересным научным исследованием по истории киданей, чжурчженей и монголов дочингисовой эпохи, построенным на труднодоступных источниках, и до сих пор привлекает внимание содержащимися в ней плодотворными идеями и смелыми предположениями.
Как в китайской литературе, так и на других языках в течение длительного времени, начиная с XIV в., авторство «Мэн-да бэй-лу» приписывалось Мэн Хуну.
Действительно, в Южной Сун состоял на различных важных должностях крупный чиновник и военачальник Мэн Хун (1195—1244), биография которого была впоследствии включена в «Сун-ши» («История [династии] Суп» — Сун-ши. Гл. 412. с. 1а—146). Но, судя по его- биографии, он не имел отношения к посольствам, отправляемым из Южной Сун к монголам. В тексте же «Мэн-да бэй-лу» автор называет себя Ху-ном. По предположению Ван Го-вэя, именно это обстоятельство явилось причиной того, что Мэн Хуна оЩибочно считали автором «Мэн-да бэй-лу». На самом деле, по сообщению южносунского писателя Чжоу Ми в сочинении «Ци-дун е-ней» («Неофициальные беседы в Цидуне»), не Мэн Хун, а Чжао Хун был от-правден с миссией к монгольскому главнокомандующему в Северном Китае Мухали командующим юж-носунскими войсками в Хуайдуне. Имя Чжао Хуна (Хун) и дата его путеп1ествия в Северный Китай (1221) совпадают с именем автора «Мэн-да бэй-лу» и годом его путешествия в Северный Китай (1221) [Там же, с. 133].
По форме «Мэн-да бэй-лу» представляет собой не дневник путешествия, как записка монаха Чан Чуня, а стройный рассказ автора, изложенный по плану и разбитый на небольшие главки. Чжао Хун, который в качестве посла больше общался с представителями местных монгольских властей, приводит важные сведения о наместнике Чингисхана в Северном Китае — Мухали и его окружении. В этом источнике можно почерпнуть сведения о распределении военной добычи у монголов, их военной тактике и др. [Там же, с. 134—137].
Работа В.П. Васильева для своего времени имела большое значение. Однако данный перевод содержал ошибки и неточности и не снабжен комментариями. На слабость его указывал П. Пельо [19, Р. 165]. Но, отдавая должное заслугам В.П. Васильева, который «дал много русскому востоковедению вообще, его имя навечно занесено в историю науки» [15, с. 531], справедливость требует также сказать о недоразумении, возникшем в связи с одним из замечаний французского ученого об этом переводе. В частности, П. Пельо в своих замечаниях на английское издание «Туркестана в эпоху монгольского нашествия» В.В. Бартольда отметил неточности в рецензируемой работе, а также в книге Б.Я. Влади-мирцова, объясняющиеся, по его мнению, неправильностью перевода В.П. Васильева [20, с. 14]. Б.Я. Владимирцов также присоединился к его мнению [10, с. 9 (прим. 2)]. На самом деле был допущен недосмотр В.В. Бартольдом и Б.Я. Владимирцевым. Они, ссылаясь на В.П. Васильева, утверждали о том, что южносунский посол, запиской которого является «Мэн-да бэй-лу», был на аудиенции Чингисхана, и относили к нему сведения, которые фактически касаются его наместника в Северном Китае Мухали [5, с. 449 (прим.6), с. 628; 9, с. 161 — 162], несмотря на то, что сам В.П. Васильев в пре-
Ф.Ф. Мухаметов дисловии подчеркивает, что автор «Мэн-да бэй-лу» никогда не встречался с Чингисханом, а был только у Мухали в Яньцзине [7, с. 170—171].
Вместе с тем, высказывание П. Пельо о некоторых недостатках работы В.П. Васильева заслуживает внимания. Очень жесткую критику его переводов дал С.А. Козин. Он считал, что «к В.П. Васильеву в особенности приложима характеристика «беспорядочного гения»: он не любил, не умел и не мог отделывать своих работ и — еще менее, должным образом создавать их» [11, с. 773], поэтому, по его мнению, «переводы В.П. Васильева слишком небрежны, не отделаны и не заслуживают научных ссылок на них» [Там же, с. 774]. Другую причину недостатков его трудов видел С.Ф. Ольденбург, и она, на наш взгляд, более убедительна. Он утверждал, в частности, что самые крупные из трудов В.П. Васильева так и не увидели свет не по его вине, но это лишило его должного внимания на научную современность и на школу (не позволило ее создать). По С.Ф. Ольденбургу из-за этого для В.П. Васильева характерны: смелые начинания, глубокие новаторские мысли, кропотливый и упорный труд... и все недоделано, прервано, заброшено, не издано [1, с. 65, 66].
В настоящее время, когда в синологии и монголоведении достигнут значительный прогресс со времени появления работы В.П. Васильева; сделанный им перевод «Мэн-да бэй-лу» пересмотрен и в исторических исследованиях используется академическое издание перевода на русский язык этой работы, хотя и оно уже не соответствует новейшим достижениям науки в этой области.
Таким образом, при несомненном вкладе западноевропейской востоковедной мысли XIX — начала XX в., первенствовавшей поначалу в изучении Востока и в области исследования нашей темы, которая послужила на первых порах авторитетным стимулом для работы российских востоковедов, русская синология уже с начала 50-х гг. XIX в. стала опережать западноевропейскую. И в этом, несомненно, была частичка востребованных исторической наукой трудов выдающихся русских синологов и, в их числе В.П. Васильева, автора первого перевода «Мэн-да бэй-лу», источника, прижизненного Чингисхану, при этом самого раннего вообще и этим весьма ценного источника по монгольскому периоду.
Список литературы Вклад ученого-китаеведа В. П. Васильева в исследование монгольского периода
- Алексеев, В.М. Академик В.П. Васильев. Заметки по поводу научного творчества и наследия (к 50-летию со дня смерти)//В.М. Алексеев. Наука о Востоке. Статьи и документы. -М., 1982. Анналы. 1923.
- Архив СПб. отделения РАН. -Ф. 820. -Оп. 1.-Д. 629. 4.
- Бартольд, В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия/В.В. Бартольд -Ч. II. -СПб., 1900.
- Бартольд, В.В. Соч./В.В. Бартольд. -Т. I. -М, 1963.
- Богословский вестник. 1897. -№ 5. 7.
- Васильев; В.П. История и древности Восточной части Средней Азии от X до XIII века, с приложением перевода китайских известий о Киданях, ЧжурчженяхиМонголо-Татарах./В.П. Васильев. -СПб., 1857. (Приложение) III. Записка о Монголо-Татарах. (Мэн-Да бэй-лу), 8.
- Васильев, В.П. Записка о монголо-татарах (Мэн-да бэй-лу)/В.П. Васильев//Труды Восточного отделения Русского археологического общества (ТВОРАО). -4. IV. -СПб., 1859. 9.
- Владимирцов, Б.Я. Чингис-хан/Б.Я. Владимиров. -П.; М.; Берлин, 1922. 10.
- Владимирцов, Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм/Б.Я. Владимирцов. -Л., 1934. 11.
- Козин, С.А. Библиографический обзор изданных и неизданных работ академика Васильева В.П. по данным Азиатского музея Академии Наук СССР (К 30-летию со дня смерти В.П. Васильева. 27.IV. 1900 -27.IV. 1930)/С.А, Козин. ИАНСССР. Отд. общ. наук. 1931. -№ 6. 12.
- Михайлова, С.М. Казанский университет в духовной культуре народов востока России (XIX в.)./СМ. Михайлова. -Казань: КГУ, 1991. 13.
- Мункуев, Н.Ц. Некоторые важные китайские источники по истории Монголии XIII века. Переводы и исследования: Автореферат дис.... канд. ист. наук. -М., 1962. 14.
- Мункуев, Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-цая. Пер. и исследование/Н.Ц. Мункуев. -М«, 1965.
- Ольденбург, С.Ф. Памяти В.П. Васильева и о его трудах по буддизму 1818-1918. [Речь, произнесенная в публичном заседании Российской Академии наук 5 марта(20 февраля) 1918 г.]/С.Ф. Ольденбург//Институт востоковедения Академии наук (ИВАН). Сер.VI (Т. XII). 1918. -№ 7. -15 апр.
- Петров, В.П. Российская Духовная миссия в Китае/В.П. Петров. -Изд. Русск. книж. дела в США Victor Kamkin, Inc. -Washington, D.C., 1968.
- Российский энциклопедический словарь. -М., 2001.-Кн. 1.
- Хохлов, А.Н. П.И. Кафаров: жизнь и научная деятельность/А.Н. Хохлов//П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (К 100-летию со дня смерти): материалы конференции. -М., 1979. -4.1.
- Pelliot, P. U edition collective des oeuvres de Wong Kouo-wei/P. Pelliot.//T'oung 17. Pao. 1928. -Vol.26. 20.
- Pelliot, P. Notes sur le «Turkestan» de M. Barthold/P. Pelliot.//T'oung Pao. 1930. -Vol. 27