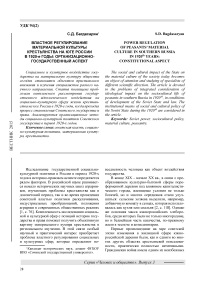Властное регулирование материальной культуры крестьянства на юге России в 1920-е годы: организационно-государственный аспект
Автор: Багдасарян Сусанна Джамиловна
Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society
Рубрика: Правовое образование, формирование правосознания населения и профилактика преступности
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
Социальное и культурное воздействие государства на материальную культуру общества сегодня становится объектом пристального внимания и изучения специалистов разного научного направления. Статья посвящена проблемам комплексного рассмотрения государственного идеологического воздействия на социально-культурную сферу жизни крестьянства на юге России в 1920-е годы, когда проходил процесс становления Советского государства и права. Анализируются организационные методы социально-культурной политики Советского государства в период 1920-х годов.
Советская власть, социально-культурная политика, материальная культура, крестьянство
Короткий адрес: https://sciup.org/148161103
IDR: 148161103 | УДК: 94(2)
Текст научной статьи Властное регулирование материальной культуры крестьянства на юге России в 1920-е годы: организационно-государственный аспект
Исследование1 государственной социальнокультурной политики в России в период 1920-х годов в историко-правовом аспекте определяется рядом факторов. В российской науке развивается немало исторических научных школ аграрников, изучающих проблемы крестьянства как в досоветский период, так и во время проведения советской властью политики раскулачивания, индустриальных преобразований, положения аграриев в современных общественных реалиях [1, с. 76]. Комплексность исследования социальной и культурной сфер с позиций истории государства и права поможет получить объективную картину материального кумира крестьянства в региональном изучении. В этой связи особый научный и практический интерес приобретает проблема властного регулирования социальных и культурных сфер, которые определяют по- вседневность человека как объект воздействия государства.
В конце XIX – начале XX вв., в связи с преобразованием культурно-бытовой сферы пореформенной деревни под влиянием капиталистического города, жилищные условия не только богачей, но и многих середняков стали улучшаться: сельские хозяева выделяли, например, добавочную комнату в сенцах, которая использовалась как кухня или спальня [2, с. 118]. Однако же основная масса южнороссийских хлеборобов, среди которых были не только иногородние, но и беднейшая часть казачества, по-прежнему жили в тесноте и антисанитарии.
Первые произошедшие на заре советской эпохи изменения в жилищной сфере южнороссийской деревни были, как и сдвиги во многих других областях крестьянской повседневности, практически полностью негативными. Гражданская война имела одним из неизбежных следствий масштабные разрушения жилого фонда. Особенно это было заметно на Юге России (в частности, на Дону), где подавляющее большинство казаков выступили против большевиков и где шли наиболее ожесточенные бои и фронт не единожды сдвигался то в одну, то в другую стороны. Неудивительно, что в ходе столь яростного противостояния станица Казанская, например, была «разрушена до корня» [3, с. 24], как и многие другие станицы и сёла. Свою лепту в рост жилищного кризиса внес голод 1921–1922 гг.; в это время современники свидетельствовали, что в результате вымирания целых семей и бегства населения в более благополучные районы «хаты стоят заброшенные», а «дворы запустели» [4, с. 37]. Бесхозное жилье, естественно, растаскивалось на стройматериалы и топливо местным населением и, тем самым, жилой фонд продолжал сокращаться.
Советская власть на исходе Гражданской войны пыталась осуществлять меры по ремонту и восстановлению жилья в отношении представителей тех социальных слоев и групп, которые выступали ее союзниками и опорой. В данном случае показательно, что на проходившем в октябре 1920 г. съезде Кубано-Черноморской областной и отдельских комиссий по оказанию помощи хозяйствам красноармейцев выражалось намерение «принять все меры к ремонту построек» в этих хозяйствах [5, с. 34]. Очевидно, однако, что в условиях послевоенной разрухи такие меры не могли иметь сколь-нибудь широкого распространения; более того, зачастую вся помощь сводилась лишь к декларациям.
Лишь после перехода к мирной жизни и провозглашения НЭПа у крестьян и представителей партийно-советского руководства появились возможности как для восстановления и расширения жилого фонда, так и модернизации жилищной сферы. При этом анализ источников позволяет утверждать, что у представителей правившей в СССР партии и административных структур, с одной стороны, и основной массы крестьянства – с другой, были различные позиции в вопросе о том, следует ли внедрять новации в домостроительство и в каких объемах это делать.
В наибольшей степени новации в жилищной сфере были заметны в коллективных хозяйствах, первые из которых возникли в Советской России уже в октябре 1917 г. [6, с. 31]. В отличие от крестьян-единоличников, колхозники практиковали коллективные формы общежития. Как правило, этим отличались коммунары, объединявшиеся не в артелях или ТОЗах, а в коммунах, для которых было характерно максимально воз- можное обобществление как производства, так и быта. В частности, на Кубани коммунары и рабочие совхозов жили не в частных домах, а «в комнатах обобществленных домов, которые в прошлом принадлежали военным казачьим властям или крупным землевладельцам. В квартирах рабочих и коммунаров стены украшались плакатами, портретами героев революции. Русская печь, не нужная при общественном питании, заменялась небольшой печью – голландкой или плитой». В коммуне «Коммунистический маяк» Георгиевского района Терского округа СевероКавказского края в 1928 г. ее члены жили в общем доме, где для каждой семьи была выделена «чистая и хорошо убранная отдельная квартира» и две комнаты для юношей и девушек [8, с. 49].
Если коммуна основывалась на пустом месте и ее члены не могли расселиться в какой-либо пустовавшей помещичьей усадьбе, они возводили общежития самостоятельно. Так поступили члены коммуны «Будущее» Лабинского района Армавирского округа Кубанской области в 1922 г., соорудив на первое время саманный корпус с пятью жилыми комнатами и «одной большой комнатой для школы» [9, с. 45]. Когда весной 1923 г. в Кущевском районе Юго-Востока России возникла эмигрантская (эстонская) коммуна «Койт» («Заря»), то коммунары за короткий срок построили помимо целого ряда хозяйственных построек «два двухэтажных жилых дома типа общежития» [10, с. 102].
Далеко не всегда, впрочем, у коммунаров имелись под боком вместительные жилые помещения либо возможность их соорудить. В таких случаях им приходилось довольствоваться любым жильем, вне зависимости от его состояния и даже невзирая на то, что таковое не было приспособлено для коллективного быта. Так, по данным Кубанского областного подотдела колхозов, в начале 1920-х годов 75% членов местных сельскохозяйственных артелей и даже коммун ютились в полуразрушенных избах, мазанках или наскоро устроенных землянках, что приводило к повышенной заболеваемости: например в сельхозартели «Общий труд» три четверти коллектива страдали от малярии [11, с. 103].
На протяжении эпохи НЭПа «жилищный вопрос» в коммунах Советской России (Советского Союза) стал менее злободневным по причине как организационно-хозяйственного укрепления ряда колхозов, так и ликвидации многих слабых и неустойчивых коллективных объединений. Но в конце 1920-х гг. данный вопрос вновь обострился в результате сплошной коллективизации, когда по указке и под давлением властей на пустом
ВЕСТНИК 2015
ВЕСТНИК 2015
месте возникла масса скороспелых и недееспособных колхозов, многие из которых не имели хозяйственных помещений и жилья для своих членов. Поэтому, например, коммуна «Большевик» Благодарненского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края в 1929 г. «разместила своих членов в амбарах» [12, с. 167], и подобных ей колхозов было множество.
Несмотря на все исключения из правил, подобные вышеописанным, жилищная сфера в колхозах (коммунах) весьма существенно отличалась от традиционного домоустройства в селах и станицах Юга России. Модернизация домостроительства и домашнего быта в таких формах коллективных хозяйств, как коммуны, в 1920-х годах была характерна не только для Дона, Кубани и Ставрополья, но и других регионов Советской России (СССР). Что же касается индивидуальных крестьянских хозяйств, то в 1920-х гг. они демонстрировали иное соотношение традиций и новаций в жилищной сфере.
Следует подчеркнуть, что представители власти и идеологи большевизма в изучаемый период, призывая хлеборобов восстанавливать порушенные войной хозяйства и, в том числе, ремонтировать старое и строить новое жилье, неустанно рекомендовали им максимально широко применять нетрадиционные для деревни материалы (кирпич, бетон, черепицу и пр.) и технологии строительства (сооружение кирпичных благоустроенных домов и т.п.). Собственно, эти рекомендации были не новы: задолго до большевиков с подобными же советами выступали земства. Пропагандистский аппарат компартии лишь снабдил рациональные предложения новой идеологической мотивацией, сводившейся к тому, что советская деревня, во-первых, должна стать неизмеримо более богатой и благоустроенной, чем при самодержавии и, во-вторых, ей необходимо быть преобразованной по образцу города и, в конце концов, превратиться в его точное подобие.
Последнее требование полностью было продиктовано большевистской (марксистской) идеологией, с позиций которой именно город и жившие здесь фабрично-заводские рабочие выступали идеалом современной (разумеется, для рассматриваемого исторического периода) индустриальной цивилизации и базой социализма-коммунизма, а крестьянство являлось безнадежным аутсайдером исторической гонки, погрязшим в «идиотизме деревенской жизни» [13, с. 52]. Еще важнее было то, что устранение различий между селом и городом позволяло превратить крестьян в рабочих и, тем самым, усилить социальную базу коммунистического режима (в более широком плане, как утверждали большевистские теоретики, перестройка деревни по образцу города имела «первостепенное значение для строительства коммунизма» [14, с. 20]).
Если исходить не из идеологических догм, а вполне практических расчетов, то факт, что от досоветских и советских властей к крестьянам исходили сходные призывы модернизировать сферу домостроительства и домоводства, объяснялся наличием в деревне эпохи НЭПа серьезных нерешенных бытовых проблем, таких, как скромная жилая площадь сельских домов, неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия в них (в значительной мере обусловленные теснотой, отсутствием форточек в окнах для вентиляции).
Таким образом, государственное властное воздействие на развитие материальной культуры крестьянства в период становления Советского государства в период 1920-х годов носило характер идеологического социально-культурного развития.
Список литературы Властное регулирование материальной культуры крестьянства на юге России в 1920-е годы: организационно-государственный аспект
- Скорик А.П. Многоликость казачества Юга России в 1930-е годы: очерки истории. -Ростов н/Д., 2008.
- Бондарев В.А. Фрагментарная модернизация постоктябрьской деревни: история преобразований в сельском хозяйстве и эволюция крестьянства в конце 20-х -начале 50-х гг. ХХ века на примере зерновых районов Дона, Кубани и Ставрополья. -Ростов н/Д., 2005.
- Стенографический отчет краевого совещания маломощных крестьян, казаков и горцев. -Ростов н/Д., 1926.
- Овчинникова К.Д. Кевсалинские делегатки//Крестьянка. -1923. -№ 8.
- Центр документации новейшей истории Краснодарского края. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76. Л. 6.
- Вылцан М.А., Данилов В.П., Кабанов В.В., Мошков Ю.А. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: пути, формы, достижения. -М., 1988.
- Карнаухова Е. О ликвидации существенного различия между городом и деревней. -М., 1953.
- Сытов С.П. Коммуна «Коммунистический маяк»//Путь Северо-Кавказского хлебороба. -1928. -№ 3.
- Сапрыкин Д.Ф. Коммуна «Будущее» постепенно развивается//Путь Северо-Кавказского хлебороба. -1928. -№ 6-7.
- Раук А.И. Сподвижники из коммуны «Койт»//Первая борозда/сост. А.Ф. Чмыга, М.О. Левкович. -М., 1981.
- Устиновский И.В. Первые шаги Кубано-Черноморской областной партийной организации в колхозном движении (1920 -первая половина 1921 г.)//Творчество, практика, опыт. -М., 1970.
- Государственный архив Ставропольского края. Ф. 1. Р-602. Оп. 1. Д. 79. Л. 47.
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. -М., 1948.
- Карнаухова Е. О ликвидации существенного различия между городом и деревней. -М., 1953.