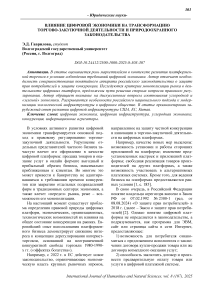Влияние цифровой экономики на трансформацию торгово-закупочной деятельности и природоохранного законодательства
Автор: Гаврилова Э.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье оценивается роль маркетплейсов в контексте развития платформенной торговли в условиях соблюдения требований цифровой экономики. Автор отмечает необходимость совершенствования понятийного аппарата российского законодательства о защите прав потребителей и защите конкуренции. Исследуются критерии монополизации рынка в деятельности цифровых платформ, предложены пути решения спорных вопросов правового регулирования. Автор обращает внимание на дискуссионные вопросы соотношения углеродной и «зеленой» экономики. Раскрываются особенности российского национального подхода к модернизации экологической инфраструктуры в цифровом обществе. В статье проанализирован зарубежный опыт развитии цифровой инфраструктуры США, ЕС, Китая.
Цифровая экономика, цифровая инфраструктура, углеродная экономика, конкуренция, информационные агрегаторы
Короткий адрес: https://sciup.org/170210897
IDR: 170210897 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-303-307
Текст научной статьи Влияние цифровой экономики на трансформацию торгово-закупочной деятельности и природоохранного законодательства
В условиях активного развития цифровой экономики трансформируется основной подход к правовому регулированию торговозакупочной деятельности. Укрупнение отдельных представителей частного бизнеса зачастую влечет его оформление в качестве цифровой платформы: продажа товаров и оказание услуг в онлайн формате выгодный и прибыльный образец бизнеса, максимально приближенным к клиентам. Во многом это может привести к банкротству не адаптировавшихся к требованиям времени конкурентов или закрытию отдельных подразделений фирм в традиционных секторах экономики, а также влечет «передел» рынка, реже – возможности его монополизации.
На настоящий момент существует проблема определения правовой природы цифровых платформ, экономических, организационных, технологических возможностей их влияния на общее состояние конкуренции на рынках. Европейский опыт использования платформенного бизнеса демонстрирует снижение интереса к концепции дерегулирования интернет-торговли, основанной на неограниченной конкурентной свободе торговли 1980-1990х гг. («эффектах богатства»).
Например, с 2022 г. в ЕС действует новое законодательство, ограничивающее экономическую власть крупных рыночных игроков, направленное на защиту честной конкуренции и инновации в торгово-закупочной деятельности на цифровых платформах.
Например, качестве новых мер выделены: возможность установки и работы сторонних приложений на платформе; изменение предустановленных настроек и приложений платформы; свободная реализация товаров производителей на других платформах, а также возможность участвовать в альтернативных платежных системах. Кроме того, для ведения бизнеса на платформах предоставляются равных условия [1, с. 185].
В свою очередь, в Российской Федерации понятие владельца агрегатора внесено в Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.08.2024) «О защите прав потребителей» в 2018 г. (далее – Закон о защите прав потребителей) [2]. Однако понятие цифровой платформы не определяется в законодательстве, а подразумевается, как программа для ЭВМ, сайт или страница сайта в сети Интернет, предоставляющее:
-
1) возможность для потребителя ознакомиться с предложением исполнителя о заключении договора купли-продажи товара или же договора возмездного оказания услуг;
-
2) способность заключить договор и произвести предварительную оплату товара или услуги в цифровой платежной системе.
Отметим, что касательно воздействия информационных агрегаторов на состояние рыночной конкуренцию в ФЗ от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) внесены лишь в 2023 г. в рамках т.н. «пятого» антимонопольного пакета [3].
Примечательно, что в положениях данного нормативного акта, напротив, закреплено понятие цифровой платформы как совокупности программ для ЭВМ в информационнотелекоммуникационных сетях, обеспечивающей совершение сделок между продавцами и покупателями, при этом само определение владельца агрегаторов отсутствует. Вместе с тем, кроме существенного терминологического различия (владелец агрегатора / цифровая платформа) имеются несовпадения в понимании юридической природы цифровых платформ.
Так, часть авторов рассматривает ее исключительно с технологической стороны как информационный посредник [4, c. 50], другая – не только как технический посредник, но и часть публичной власти, так как предусматривается регламент взаимодействия участников платформы, механизм проверки финансовой состоятельности поставщиков, порядок разрешения споров [5, с. 332]. С одной стороны, во втором случае отмечается концентрация рыночной и административной власти, что связано с рисками монополизации части рынка и усилением политического и социально-экономического влияния таких платформ, что конечно же нуждается в особом законодательном внимании.
С другой стороны, если отталкиваться от экономико-технологической природы цифровой платформы, то, согласно современному российскому законодательству (ст. 12 Закона о защите прав потребителей), владелец агрегатора, по существу, не несет ответственности: так, он не отвечает за исполнение договора продавца / исполнителя с потребителем, за причиненные вследствие этого убытки потребителю, за предоставление неполной или недостоверной информации о товаре (в случае, если он сохраняет в неизменном виде информацию продавца по товару). Таким образом, владелец агрегатора сохраняет статус информационного посредника, оказывающего лишь техническое содействие заключению сделок, нейтрального к вытекающим из ст. 1253.1 ГК РФ условиям и содержанию этих сделок.
Отметим, что на практике выявились случаи, связанные с невозможностью цифровой платформы полностью самоустраниться от технических функций регулирования торговозакупочной деятельности, поскольку проверка законности сделок и элементарная модерация должны присутствовать в его работе. При этом, оператор цифровой платформы может участвовать в получении прибыли продавцов (изготовителей), поэтому не может быть беспристрастным в полном объеме и, соответственно, освобождаться от ответственности за совершение сделок в регулируемом им пространстве.
Судебной практикой сформированы критерии ответственности цифровых платформ, однако, безусловно, на настоящий момент они недостаточно проработаны для того, чтобы корректировать законодательство.
В свою очередь, при сравнении антимонопольных требований к цифровым платформам в ЕС и Российской Федерации, следует подчеркнуть, что в РФ они даже более мягкие, так как в ЕС достаточно превышения более 45 млн. пользователей платформы в месяц для действия обязательных правил.
В свою очередь, в сферу действия Закона о защите конкуренции попадают хозяйствующие субъекты, имеющие годовую выручку более 2 млрд руб. и стоимость совершаемых сделок более 35% общего объема сделок на платформе, а также оказывающие влияние на общие условия обращения товара на цифровой платформе субъекты рынка.
Таким образом, сфера действия закона находится во взаимосвязи с единичными случаями деятельности цифровых платформ, критерий же «решающего» влияния» на общие условия обращения товара, зачастую недостаточно определенные из-за необходимости предварительного выдела из общего рынка подконтрольной платформам доли (что зачастую затруднительно).
Однако нельзя исключать и то, что со временем российское антимонопольное законодательство станет жестче, как и европейское.
Также следует обратить внимание на то, что в условиях активного развития инфраструктуры цифровой экономики возникают новейшие тенденции при совершенствовании природоохранного законодательства. В данном случае вопрос стоит о совершенствовании безотходных технологий, а также иных мер по ресурсосбережению, снижению выбросов парниковых газов.
Отметим, что действующий в России ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [6] не оперирует понятиями «зеленой» экономики, «зеленых инноваций» и т.п., характерных для глобальной экономики. Это во многом связано с тем, что в Российской Федерации в основном используется компенсационный подход к эксплуатации природных ресурсов, возмещение причиненного вреда окружающей природной среде, а также система учета и ликвидации накопленного природе вреда.
Рыночное регулирование отношений в области охраны окружающей природной среды дополняется научными исследованиями, основами экологического просвещения и экологической культуры населения.
В целом инфраструктурой цифровой экономики зарубежных стран широко используются идеи о стабильном экологически безопасном развитии общества и технологий. Так, например, замена веществ углеродного цикла на возобновляемые и устойчивые источники энергии (т.н «зеленая» экономика и «зеленые» инновации) – на настоящее время ключевая идея и основная тенденция развития зарубежного природоохранного законодательства. Кроме того, акцентируется внимание на положительном влиянии цифровых технологий в целях обеспечения безопасного проживания в «умных» городах, выпуска экологически чистой продукции и повышения общего уровня экологической культуры граждан.
Однако даже в зарубежных источниках выделяются негативные факторы, которые тормозят устойчивое развитие государств в данной области. В первую очередь это касается «электронных» отходов (совокупности электроники, удовлетворяющей растущий спрос потребителей на решение задач с большими объемами данных и мощность устройств, но они не потребляют большое количество электроэнергии и не выбрасывающих парниковые газы в атмосферу).
Вскоре они заменяются новым оборудованием, а старое оборудование следует утилизировать. При этом, баланс между технологическим прогрессом и его последствиями для природы не может быть точно найден для всех стран. Этот вопрос решается индивидуально в каждом государстве [7, с. 667].
Кроме того, представляется интересным, что приоритет «зеленых» инноваций не влияет на фактическую ситуацию с «электронными» отходами. Так, например, в США примерно 20% старой техники перерабатывается на территории страны, а 80% – вывозится в развивающиеся страны, что подтверждает перемещение места хранения накопленного электронного мусора с территории одной страны на территорию другой. Между тем, США, являясь крупнейшим производителем технологического оборудования, до настоящего времени не подписали Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г.
Несмотря на указанные проблемы регулирования природоохранной деятельности, инфраструктура природоохранной деятельности в целом преобразуется из традиционной в цифровую, однако это осуществляется неравномерно с географической точки зрения в мире и внутри каждого государства отдельно.
Примечательны следующие методы решения проблем, используемые в зарубежных странах: так, например, в целях преодоления инновационного «разрыва» в Китае используется смешанный подход. Это означает, что влияние традиционной инфраструктуры более заметно в процессе роста городского населения на отдельных территориях. В свою очередь, на других территориях в связи с процессами модернизации производств и рынков сбыта развиваются за счет новой цифровой инфраструктуры [8].
Китайскими учеными отмечается, что цифровая инфраструктура эффективнее развивается в больших и не ресурсоемких городах, так как в первую очередь именно в них проживает экономически состоятельное население, в связи с чем отсутствует необходимость поддерживать традиционную промышленную инфраструктуру. Между тем, исследуется невозможность полного отказа от традиционных технологий добычи полезных ископаемых, что связано с потребностью налоговых поступлений в бюджеты, а также сохранения стабильного уровня занятости граждан.
Считаем, что наиболее перспективным в таких городах является внедрение экологически чистых технологий, однако инфраструктура цифровой экономики в целом может быть не прямым, а косвенным фактором устойчивого развития [9]. Сегодня в Китае действует следующая закономерность: чем выше уровень развития имеет цифровая инфраструктура, тем более действенными являются инвестиции в эту инфраструктуру. В свою очередь, эффективность цифровых технологий и иных инноваций обеспечивается ограничением финансового давления, а также непрерывным развитием цифровой грамотности пользователей.
Россией учитывается положительный опыт Китая и других стран мира в процессе реализации инфраструктурных проектов в сфере экологии. Однако, российское законодательное регулирование основывается в основном на собственных представлениях об устойчивом социально-экономическом и экологическом развитии, при котором цифровая инфраструктура пока лишь расширяет и дополняет возможности традиционной инфраструктуры,
Так, например, РФ не отказывается от экологически чистой ветровой, атомной и гидроэнергетики, так как ими справедливо занята высокая долю в Единой энергетической системе страны: 20% – гидроэнергетика; 20% – атомная энергетика; 1% – солнечная энергия. Остальные 60% связаны с экономикой углеродного цикла. Между тем, и в ней осуществляются меры по снижению выбросов, загрязняющих окружающую природную среду, взиманию платы за негативное воздействие, повышению энергоэффективности, сокращению вырубки лесов, формированию культуры экологического сбережения и т.д.
Таким образом, в отечественной торговозакупочной деятельности сочетаются свобода предпринимательства и антимонопольные требования к цифровым платформам, подлежащие уточнению и детализации по мере становления цифровой экономики.
В свою очередь, в отечественной природоохранной деятельности цифровые экологические инновации улучшают состояние традиционной инфраструктуры экономической деятельности, но не являются самоцелью, а существуют как средство обеспечения инвестиционной привлекательности углеродной экономики.
но не заменяет ее.