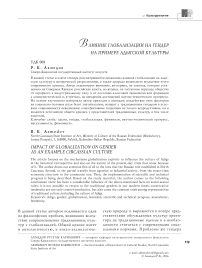Влияние глобализации на гендер на примере адыгской культуры
Автор: Ахмедов Рустам Каримович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1 (69), 2016 года.
Бесплатный доступ
В данной статье в ключе гендера рассматриваются механизмы влияния глобализации на адыгскую культуру в исторической ретроспективе, а также природа возникшего вследствие этого современного кризиса. Автор акцентирует внимание, во-первых, на законах, которые установила на Северном Кавказе российская власть, во-вторых, на частичном переходе общества от аграрного к индустриальному типу и от сословно-классовой экономической формации к коммунистической и, в-третьих, на внедрении достижений научно-технического прогресса. На основе изученного материала автор приходит к выводам: воздействие этих факторов на социально-половые роли было значительным; возврат к традиционным гендерам в условиях современности невозможен; консервативные тенденции не только непродуктивны, но и являются источником общего кризиса у представителей традиционных культур, в том числе адыгской.
Адыги, гендер, глобализация, феминизм, научно-технический прогресс, маскулинность, феминность
Короткий адрес: https://sciup.org/144160560
IDR: 144160560 | УДК: 008
Текст научной статьи Влияние глобализации на гендер на примере адыгской культуры
В данной статье автором поднимается одна из философских проблем, возникших вследствие соприкосновения традиционных культур с глобализацией. Общий кризис имеет и онтологическую, и этико-аксиологиче- скую природу и выражается в потере представителями обсуждаемых культур ориентира на традиционные идеалы и в необходимости считаться с современными социальными нормами. Проблемы же гендера
АХМЕДОВ РУСТАМ КАРИМОВИЧ — аспирант кафедры культурологии театрального факультета Северо-Кавказского государственного института искусств
AKHMEDOV RUSTAM KARIMOVICH — doctoral student of Department of Cultural Studies, North Caucasian State Institute of Art
являются лишь частью неразрывного комплекса кризисных явлений на стыке глобализма и традиционализма.
Актуальность обсуждаемой проблемы велика, ввиду широкого распространения стереотипа глобализации как искусственно насаждающейся инородной культуры, например «западной», с целью преднамеренной полной ассимиляции этносов посредством уничтожения их традиционной культуры. Эта мнимая угроза вызывает реальный пассионарный подъём, выражающийся в этноцентризме, отторжении чуждых культур, желании вернуть традиционный уклад жизни, что часто может выражаться в русофобии [5]. В результате этого возникают конфликты не только внутриличностные, у представителей традиционных культур, но и социальные, как со сторонниками глобализации, так и в отношении всех глобализационных факторов и тенденций. Дополнительно актуальность проблемы возрастает из-за слабой экономической эффективности КабардиноБалкарской Республики в настоящее время и тяжёлого положения женщин, проживающих в сельской местности. В этой статье на примере адыгской культуры будет предпринята попытка установления причин формирования гендеров, рассмотрены механизмы их эволюции в современности и проведена переоценка участия в этих процессах глобализации, истинной сутью которой является распространение научно-технического прогресса (НТП) и передовой философской мысли, основанной также на последних достижениях в науке [1].
При рассмотрении глобализации в качестве средства распространения и интеграции в повседневность НТП можно выделить несколько наиболее существенных путей влияния её на архаичные культуры: непосредственное внедрение инновационных технологий, упрощающих быт и различные ремёсла; урбанизацию с одновременным постепенным обеспечением поселений электроэнергией, водяными и газовыми коммуникациями; переход к индустриальной экономической фор- мации с соответствующим изменением окружающей среды и комплексных сфер межличностных отношений; развитие СМИ, осуществляющих неконтролируемый кросс-культурный архетипический дрейф; изменение психологических установок; переориентацию культуры на гуманистические императивы, культивирование ценности человеческой жизни, развитие личности.
Рассуждая о влиянии глобализации на гендер в архаичной адыгской культуре, важно отметить причины формирования последней: состояние гобсовской «войны всех против всех» (bellum omnium contra omnes), низкий уровень горизонтальной стратификации общества по видам деятельности, отсутствие чётко сформированных институтов государственности.
Таким образом, оба гендера были ориентированы в первую очередь на военные действия: мужчина рассматривался как воин, а женщина — как мать, хранительница очага или спутница воина. Например, существовали традиции предпочтения выбора жениха, пусть и материально несостоятельного, но из числа прославленных воинов. В результате этого мужчины подталкивались на нескончаемые междоусобные конфликты, а женщины получали достойного отца для рождения и воспитания будущего воина. При воспитании мальчиков матерями делался упор на воинственность: считалось неуместным плакать по сыну, который погиб, плохо сражаясь, и было позором для семьи иметь мужчину, бежавшего с поля боя [3]. Обобщая, можно сказать, что женщины были залогом военных успехов в рамках одной семьи и боевого потенциала для целого народа.
Ввиду иных обстоятельств гендерная дифференциация также заключалась в диаметрально противоположных уровнях общественной жизни: мужественность ассоциировалась с публичностью, а женственность — с интимностью, граничащей с сакраль-ностью [4]. Традиционный уклад отводил женщине роль источника и хранительницы жизни, что вкупе с относительно рациональным разделением труда по критерию физических затрат привязывал женщину к дому: обеспечение водой, огнём, пищей; обязанность доить скот, но не забивать; воспитание детей; шитье одежды для всей семьи; и, что наиболее важно, хранение репутации и чести рода, которую, вероятно, тем легче было поддерживать, чем меньше имелось возможностей её унизить, дискредитировав себя и свою семью в обществе.
Различия в социально-половых ролях были и в степени самостоятельности и самодостаточности. Так, у женщины не было прав на владение собственностью — последняя всегда была под контролем либо мужа, либо отца, либо братьев женщины. За крайне редким исключением, которые подтверждали общее правило, женщина не рассматривалась в качестве независимой личности — вне контекста семьи и рода [4]. Свидетельством относительно приниженного личностного статуса женщины, вероятно, может служить явление калыма: помимо материальной компенсации роду женщины за её воспитание, муж с помощью калыма символично покупал права на владение этой женщиной у её мужчин-родственников [3].
Гармония в обществе, общий уровень удовлетворённости женщин ситуацией поддерживались не только страхом перед остракизмом, но и уважением к женщине, гарантиями безопасности и т.д., эквивалентными её заслугам перед семьёй, родом. Объективное гендерное неравенство не ощущалось до прихода на Северный Кавказ власти Российской империи, которая и стала проводником глобализации.
Говоря о процессе проникновения следствий научно-технического прогресса и передовой философской мысли на Северный Кавказ, можно разделить его на периоды. Так, первый период начался примерно с середины 60-х годов XIX века и продолжился до установления власти большевиков; второй — с 20-х годов ХХ века и до начала 90-х годов ХХ века; третий длится и по наше время.
В первом из анализируемых периодов на территории Северного Кавказа, в частности у адыгов, глобализация не была связана с распространением достижений научно-технического прогресса, но заключалась в установлении рациональных законов, предотвращающих неоправданное кровопролитие внутри государства и принятых во всех цивилизованных странах. В интересующем нас контексте за короткий период времени были искоренены междоусобные войны, кровная месть, «всаднические стоянки» и т.д., что запустило механизм уменьшения дистанции между мужским и женским гендерами [2]. У мужчин значительно сузилась возможность проявления своей маскулинности. Со стороны мужской социально-половой роли это было беспрецедентное продвижение к уравниванию. Фундаментальная женская социальная роль матери и спутницы воина, дифференцирующая гендерно-ролевую стратификацию, была негласно упразднена; потеряли актуальность соответствующие традиции, например выбора жениха, имеющего богатое военное прошлое.
С приходом к власти большевиков претерпели существенные изменения все сферы жизни адыгов, не исключая гендер. Основной причиной был частичный переход от сословно-классовой экономической формации к коммунистической, а также от традиционного общества — к индустриальному. Это диктовало новые требования и к структуре общества, и к отношениям между людьми, и к личностным характеристикам каждого отдельного индивида.
В связи с развитием «социальных лифтов» и равных возможностей для самореализации, к труду и активной общественной жизни привлекались представители обоих полов. Так как мужчины заранее были допущены к образованию, а также особенностью их гендера у адыгов всегда была публичность, то оставалось обеспечить образованность и публичность женщин [4]. Таким образом, было осуществлено уравнение гендеров ещё по двум критериям.
Горизонтальная стратификация полов по видам деятельности, а также внедрение промышленного производства повлекли за собой, во-первых, перенесение на узкоспециализированные предприятия универсальных в гендерном аспекте функций, до того момента выполнявшихся исключительно представителями одного из полов, и, во-вторых, увеличение свободного времени у женщин, что стало важным фактором их интеграции в советское общество. Так, если в архаичной адыгской культуре существовала традиция, например, шитья женщиной одежды для всей семьи, то с появлением ткацких цехов и фабрик она потеряла свою актуальность. Рассматривая гендер в горизонтальной плоскости — в контексте функционального разделения труда по половому признаку, можно утверждать, что подобные вышеописанным изменения означали и сближение гендеров.
Более фундаментальные различия между социальными ролями были стёрты при появлении детских садов, школ-интернатов и иных учреждений, которые брали на себя функцию воспитания детей. Социальная роль источника и хранительницы жизни, поддерживающая особый статус женщины в семье и в обществе, окончательно перестала быть сакральной после проведения коммуникаций в каждый дом — столь ценимая, практически религиозная женская обязанность обеспечения жилища водой и теплом была упразднена.
Рассуждая о глубинных механизмах изменения в социально-половых ролях, важно упомянуть о личностном статусе женщины. В новом гражданском обществе правового государства женщина обретала свободу волеизъявления, возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, телом и интеллектом. Вероятно то, что адыгские женщины начали бы стремиться к эмансипации задолго до прихода на Северный Кавказ глобализации, если бы им была в принципе известна возможность быть независимой личностью, даже не обладая такими незаурядными чертами, которыми обладала мифическая Сатаней.
Третий период характеризуется переходом к информационному обществу. Ему соответствует неконтролируемый кросс-культурный архетипический дрейф, предлагающий на выбор представителям традиционных культур, потерявшим мировоззренческую ориентацию, ещё больше стратегий поведения, способов мышления и т.д. В рассматриваемом периоде особенную ценность приобрело владение информацией и умение ею пользоваться. Последнее замечание относится преимущественно к мужскому гендеру, за которым закреплена бессменная функция обеспечения семьи материальными средствами. Важно отметить, что по причине непричастности к науке большинство населения делает выбор поведенческой стратегии, опираясь на мнение старших, общественности или субъектов, успешных в пропаганде. В нашем случае под влиянием многих обсуждаемых факторов большинством принимается уклад, проверенный временем и соответствующий традиционному, но несовместимый с современностью, что и приводит к указанным в начале статьи проблемам.
Ввиду инертности культур традиционного типа, к которым относится и адыгская, на архетипическом уровне ещё существует разделение труда по половому признаку, причём мужчины крайне редко берутся за женские работы, а обратное явление наблюдается довольно часто. В городе есть много видов деятельности, которые архаичной адыгской культуре не были известны, и так как их нельзя разделить по половому признаку, опираясь на традиции, в них заняты оба пола. Например, офисные работники, операторы сотовой связи и т.д. Поэтому проблема стоит остро в сельской местности, где внедрение НТП не получило достаточного распространения и хозяйство почти полностью ведётся женщинами. Дойка скота, например, считается женским делом, и мужчины за него редко берутся, а сенокос — исторически считается занятием мужским, но в наши дни женщины часто в нём также заняты. Работают в поле и на рынках преи- мущественно женщины. Вкупе с архетипиче-ски обусловленным нежеланием заниматься женскими делами, многие мужчины-сельчане предпочитают в лучшем случае безработицу, в худшем — преступную деятельность. Таким образом, следствиями влияния глобализации на гендер в традиционной адыгской культуре являются в сельской местности высокий уровень мужской безработицы при достаточном количестве свободных для обработки земель и тяжёлое положение женщины, что повышает аномичность.
Так как в начале 90-х годов ХХ века было ликвидировано множество рабочих мест, коллективных хозяйств и т.д., население Кабардино-Балкарской Республики попало под действие сильнейшего экономического кризиса, что вкупе с одновременной утратой консолидирующей идеологии и нравственных ориентиров вынудило северокавказские этносы искать пути выхода из сложившейся ситуации.
С определённой долей уверенности можно утверждать, что современные тенденции возрождения адыгской культуры могут быть связаны с этапом в её развитии с архаичной до текущего состояния, за который гипотетически могла произойти модернизация архаичной культуры, естественная её адаптация к реалиям, диктуемым новыми потребностями. По причине отсутствия государственности, письменности и т.д. в адыгской культуре, она не была готова к столь объемлющим трансформациям под действием глобализации, от чего процесс не был плавным и безболезнен- ным. Ставка на подобный консервативный «шаг назад» обусловлена памятью о социальном балансе и экономической гармонии до момента установления российской власти.
Исходя из всего вышесказанного, автор приходит к ряду выводов: во-первых, переход адыгского этноса к системе социалистических отношений и индустриальному обществу представляет собой точку невозврата архаичной культуры по причине невозможности отказа от достижений НТП, изменивших культуру в корне, как было показано на примере гендерного аспекта; во-вторых, культивирование возрождения архаичной культуры влечёт за собой следствия, подобные описанным касательно связи архетипического разделения труда по половому признаку, безработицы и тяжёлого положения женщин; в-третьих, стратегия возврата в рассматриваемом случае имеет рекурсивный характер, то есть кризис способствует возврату, который провоцирует ещё больший кризис; в-четвёртых, чтобы оценить целесообразность консервативного подхода к решению проблемы, достаточно обратить внимание на народы, культуры которых плавно прошли все стадии развития от архаичной до современной: в случае кризиса итальянцы не прибегают к инквизиции, а немцы не облачаются в латные доспехи — они знают, что, преодолев развитие от Средневековья ещё раз, они всё равно вернутся к современному состоянию практически без изменений, а также, как говорил Гераклит, что «в одну реку нельзя войти дважды».
Список литературы Влияние глобализации на гендер на примере адыгской культуры
- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века /пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева; Центр исследования постиндустриального общества. Москва: Логос, 2003. 355 с.
- Зюков А. М. Кровная месть: внеправовой обычай и государственно-правовая политика: [учебное пособие]. Владимир: Изд-во ИП Журавлева, 2009. 156 с.
- Ногмов Ш. История адыгейского народа: Сост. по преданиям кабардинцев / вступ. ст. [с. 7-43] и подгот. текста Т. Х. Кумыкова; [примеч. Б. А. Гарданова, Т. Х. Кумыкова]. Нальчик: Эльбрус, 1994. 232 с.
- Текуева М. А. Мужчина и женщина в адыгской культуре: традиции и современность. Нальчик: Эль-Фа, 2006. 260 с.
- Тайсаев Д. М. Эволюция. Этничность. Культура: на пути к построению постнеклассической теории этноса. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2005. 197 с.