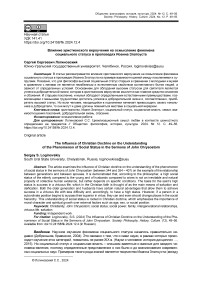Влияние христианского вероучения на осмысление феномена социального статуса в проповедях Иоанна Златоуста
Автор: Логиновский Сергей Сергеевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние христианского вероучения на осмысление феномена социального статуса в проповедях Иоанна Златоуста на примере взаимоотношений между поколениями и супругами. Показано, что для философа высокий социальный статус старших в сравнении с молодыми и мужей в сравнении с женами не является неизбежным и естественным свойством коллективного бытия людей, а зависит от определенных условий. Основанием для обладания высоким статусом для святителя являются успехи в добродетельной жизни, которая в христианском вероучении мыслится как главное средство спасения и обожения. И старшее поколение, и мужья обладают определенными естественными преимуществами, позволяющими с меньшими трудностями достигать успехов в добродетельной жизни и, соответственно, приобретать высокий статус. Но если человек, находящийся в подчинении начинает превосходить своего начальника в добродетели, то они могут и даже должны поменяться местами в социальной иерархии.
Христианство, иоанн златоуст, социальный статус, социальная власть, семья, взаимоотношения поколений, добродетельная жизнь, спасение
Короткий адрес: https://sciup.org/149147096
IDR: 149147096 | УДК: 141.41 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.4
Текст научной статьи Влияние христианского вероучения на осмысление феномена социального статуса в проповедях Иоанна Златоуста
344 и 354–407) – известного христианского проповедника и отца Церкви (Брендле, 2008; Грыжан-кова, 2002). Хотя он не использует понятия «социальный статус» и «социальная власть», однако содержание его рассуждений указывает на обращение именно к тем феноменам, которые в настоящее время обозначаются этими понятиями. На наш взгляд, отсутствие современных терминов в рассуждениях мыслителей прошлого не означает отсутствия самой предметной области, которая изучается при помощи обозначаемых ими понятий. Иной способ описания может (наряду с другими факторами) придавать своеобразие представлениям мыслителей прошлого об этой предметной области, но не делает ее недоступной или несуществующей для них. На наш взгляд, в тех случаях, когда философы предыдущих исторических эпох и современные ученые осмысляют одну и ту же предметную область, допустимо использовать при изложении взглядов мыслителей прошлого современную терминологию. При этом можно говорить о своеобразном переводе на современный (научный) язык содержания философских рассуждений. Цель его – актуализировать представления мыслителей прошлого и сделать их понятнее современному читателю. При этом, конечно, не следует забывать и о специфике времени, которую подчас невозможно описать, используя термины современной науки.
Впрочем, на наш взгляд, особенности рассуждений Златоуста о социальном статусе и социальной власти заключается, скорее, не в иной терминологии, а в том, что он рассматривает указанные феномены с религиозной (христианской) точки зрения. При этом акцент в своих рассуждениях по данному вопросу он делает на проблеме оснований обладания тем или иным статусом и связанной с ним социальной властью. Чаще всего святитель рассматривает их на примере семьи (анализируя отношения между мужем и женой, а также между поколениями – старшим и младшим). При этом Златоуст формулирует необычную для своего времени точку зрения, которая позволяет по-новому взглянуть не только на историю изучения феноменов социального статуса и социальной власти, но и на специфику христианского понимания указанной проблематики, что актуально и в наше время.
Цель данной статьи – установить, как религиозное (христианское) мировоззрение Иоанна Златоуста влияет на его понимание феномена социального статуса и социальной власти на примере отношений между мужем и женой и между старшим и младшим поколением.
В современных условиях, когда государство и общество уделяют особое внимание традиционным духовно-нравственным ценностям, обращение к рассматриваемой в статье теме представляется весьма актуальным. Творчество Иоанна Златоуста, одного из трех вселенских учителей православной церкви, является важнейшей основой этих ценностей, поэтому обращение к нему позволяет лучше понять как истоки этих ценностей, так и современное их состояние.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что выводы, полученные в данной статье, позволяют уточнить место Иоанна Златоуста и его идей в историко-философском процессе, конкретизировать связь социальных и религиозных концепций прошлого и настоящего, поскольку и в наше время немалое число авторов позиционирует себя в качестве последователей идей святителя.
В методологическом плане мы использовали подход, предложенный таким современным исследователем религиозных феноменов, как В. Ханеграаф (Hanegraaff, 1995). Ученый исходит из того, что при изучении религиозных феноменов необходимо соединять эмпирическое описание и концептуальный анализ. Также данный исследователь предполагает, что любые религиозные описания метаэмпирической реальности не должны оцениваться ни как ложные, ни как истинные, ведь сами ученые не имеют доступа к этой реальности, по причине чего должны придерживаться методологического агностицизма (Носачев, 2023). В той мере, в какой эти описания метаэмпирической реальности представлены в реально воспринимаемой форме (при помощи слов, образов и т. д.), они могут изучаться учеными (Hanegraaff, 1995: 101).
Что касается понимания социального статуса (и связанных с ним понятий), то приходится констатировать, что в научной литературе существуют различные подходы к трактовке данного феномена (Добреньков, Кравченко, 2004). В данной работе мы будем исходить из понимания статуса как соотносимого с положением других людей места индивида в общественной структуре (Шкаратан, 2012).
Златоуст о социальном статусе и социальной власти во взаимоотношениях между старшими и младшими . Говоря о взаимоотношениях между поколениями, Златоуст указывает, что традиционная, общепринятая модель этого общения предполагает, что те, кто младше, должны «почитать» тех, кто старше, подчиняться им и учиться у них. Те же, кто старше, должны не просто властвовать над более молодыми, но словом и делом являть пример мудрости, «деятельной добродетели». Другими словами, те, кто старше, имеют более высокий статус и связанную с этим социальную власть над теми, кто младше.
В первую очередь сказанное относится к людям, достигшим старости, к тем, кого Златоуст называет «старцами»1. Подчеркивая особое положение этой категории людей и одновременно объясняя причину этого, философ говорит, что «старец есть царь, если захочет быть им, и даже царь более облечённого в багряницу, если повелевает страстями, если низводит страсти свои в ряд ору-женосцев»2. Эти слова позволяют заключить, что, согласно Златоусту, главным основанием высокого статуса старцев является их «преуспеяние» в добродетельной жизни в том смысле, как она понимается у представителей патристики (Зарин, 2006; Ларше, 2018). Но насколько это «преуспеяние» неизбежно? Говоря современным научным языком, можно ли считать социальный статус старцев аскриптивным (приписанным) или достигаемым (Linton, 1936)?
Наличие слов «если захочет» предполагает, что «царственный» статус старца и его социальная власть над младшими не являются для Златоуста чем-то неизбежным, то есть позволяют предположить, что это достигаемый статус. В самом деле, контроль над (греховными) страстями, преуспеяние в добродетельной жизни у отцов Церкви не является (после грехопадения первых людей) чем-то само собой разумеющимся ни для одного человека. Но все же, как считает Златоуст, в вопросе большей или меньшей простоты в деле борьбы с греховными страстями люди отличаются друг от друга, причем не только в силу своих индивидуальных черт, но и в силу принадлежности к определенной социальной группе, в частности, к возрастной. Он говорит о том, что у представителей старшего поколения есть ряд особенностей, которые упрощают для них достижение добродетелей в сравнении с молодыми людьми. С учетом того, что это, как и сама принадлежность к старшему поколению, есть явление естественное и неизбежное, не связанное с личными усилиями человека, можно говорить, что статус старцев отчасти является аскриптив-ным. В этой связи возникает вопрос, какая составляющая его – аскриптивная или достигаемая – имеет для Златоуста большее значение и как они соотносятся?
При этом святитель обращает внимание своих слушателей на три момента. Во-первых, по естественным (биологическим) причинам у людей старшего поколения, как выражается Златоуст, «слабеют поводы» к страстям. Но сама по себе эта особенность не приводит автоматически к добродетельной жизни. Греховная страсть является составляющей психической жизни человека, поэтому неспособность (полностью или частично) реализовать подобные наклонности не устраняет их в принципе. С точки же зрения христианского вероучения, сама по себе греховная наклонность (даже не реализованная) подлежит не меньшему осуждению, чем совершенный под ее влиянием поступок (Зарин, 2006; Ларше, 2018). По этой причине можно утверждать, что эта особенность старцев сама по себе не позволяет занимать им тот высокий статус, который за ними признает Златоуст. Она лишь облегчает деятельность, связанную с искоренением греховных страстей.
Во-вторых, святитель отмечает, что с возрастом человек становится опытнее, в том числе в вопросе «низведения» своих греховных страстей «в ряд оруженосцев». Данная особенность старцев, как и предыдущая, сама по себе не обеспечивает им высокий статус. В самом деле, наличие опыта еще не гарантирует его использования ни в отношении собственной жизни, ни применительно к судьбам других людей. Опыт лишь облегчает деятельность человека, связанную с искоренением греховных страстей, но она все же требует осознанных индивидуальных усилий.
В-третьих, Златоуст отмечает, что «старцы знают, что они умрут и всячески, стоят близко к смерти. Таким образом, когда с одной стороны возникают мирские пожелания, а с другой – является ожидание судилища, укрощающее непокорность души, то она делается более внимательною, если захочет»3. Конечно, внезапно умереть может любой человек, но в случае со старцами вероятность этого намного выше, поскольку связана не с экстраординарными, а с естественными (биологическими) причинами. Как и в первых двух случаях, эта особенность старцев не предопределяет, а лишь облегчает добродетельную жизнь, которая требует осознанных индивидуальных усилий со стороны человека.
Таким образом, все три присущие старцам особенности сами по себе не делают их высокий социальный статус неизбежным, то есть аскриптивным. Златоуст склонен считать его достигаемым. В пользу этого, по мнению святителя, говорит наличие не только рассмотренных выше особенностей старцев, способствующих добродетельной жизни, но и особенностей, препятствующих ей. Объясняя слова апостола Павла в Тит. 2:2–3 («Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству»), Златоуст отмечает, что старость, помимо общих и присущих любому возрасту недостатков, имеет и свои, специфические, например, «леность, медлительность, забывчивость, тупость, раздражительность»1. По этой причине, как говорит святитель, апостол и призывает старцев быть бдительными и избегать опасностей, не простительных и для молодых, не говоря уже о проживших долгую жизнь.
Таким образом, несмотря на определенные преимущества, старец, как и любой другой человек, не застрахован от греха. Следовательно, и власть старцев над молодыми, по мнению Златоуста, не является неизбежной. Из этого с необходимостью следует, что высокий статус старца (и связанная с ним социальная власть) может быть утрачен. И действительно, Златоуст прямо об этом говорит. Прежде всего, святитель считает, что старец, который не «устоял в добре», становится всеобщим посмешищем, поскольку, имея значительные преимущества перед представителями иных возрастных групп, ведет себя неподобающим образом. Такой старец, продолжает Златоуст, достоин не только осмеяния, но и наказания. В самом деле, если он «увлекается и низлагается с престола, если становится рабом любостяжания, тщеславия, щегольства, пресыщения, пьянства, гнева и сладострастия, если умащает волосы свои елеем и явно бесчестит возраст своими прихотями, то какого наказания не достоин такой»2 старец? Более того, его наказание, учитывая опасность преступления, должно быть «сугубым». Ведь старец, обладая высоким статусом, является примером для молодого поколения. В силу этого, демонстрируя греховное поведение, старец укрепляет молодежь в уверенности, что грех допустим и даже желателен. Поэтому невыполнение старцем своих обязанностей, а тем более действия, противоположные им, заслуживают самого строгого наказания. Христос, как подчеркивает святитель, недвусмысленно сказал об этом: «кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф. 18, 6).
Закономерным итогом такой греховной жизни старца является потеря им своего высокого статуса и социальной власти над более молодыми. «Не требуй, – подчеркивает Златоуст, – себе почтения ради седины, когда сам подвергаешь ее бесчестью; она ведь тоже может потребовать от тебя отчета за то, что ты позоришь столь светлое и достоуважаемое украшение»3, вместо того чтобы использовать преимущества своего возраста.
Таким образом, для Златоуста высокий статус старца (и связанная с ним социальная власть над молодыми) является всецело достигаемым, а не аскриптивным, даже несмотря на наличие определенных естественных преимуществ. Он подчеркивает, что социальная власть старца – это не неустранимая привилегия, а служение, требующее соответствующего образа жизни. Всякий старец должен помнить, что «мы почитаем седину не потому, что предпочитаем белый цвет черному, но потому что она – знак добродетельной жизни; взирая на неё, мы заключаем от нее к седине внутренней»4.
Подобная позиция является весьма смелой для эпохи, в которую жил святитель, когда власть старшего поколения воспринималась как «аскриптивная». Понимая необычность своей точки зрения, Златоуст использует оригинальную риторическую тактику. Сохраняя традиционные представления о высоком социальном статусе старшего поколения, он изменяет значение слова «старец», настаивает на том, что оно указывает не столько на возраст сам по себе, сколько на определенные положительные черты. Поскольку ими может обладать человек любого возраста (пусть для этого людям разного возраста и требуется неодинаковое количество усилий), постольку и старцем можно называть человека любого возраста. И наоборот, человек преклонного возраста, не достигший успехов в добродетельной жизни, по мнению Златоуста, не достоин называться старцем. «Поступающие таким [греховным – С.Л.] образом, кажется мне, суть юноши, хотя бы они вступили в сотый год своей жизни; равно как и юноши, хотя бы они были маловозрастными детьми, если ведут себя целомудренно, гораздо лучше старцев. Не мои это слова, но Писание полагает между ними такое различие: ибо не в долговечности, – говорит оно, – честная старость и не числом лет измеряется (Прем. Сол. 4:8, 9)»5. Он скорее за свои дела может быть назван «юнцом», ибо подобные дела свойственны только юнцам. Одним словом, «как находящееся в старости бывают юношами, так и наоборот; и как там убеленные волосы не спасают никого, так и здесь черные волосы не служат препятствием»6 к обретению мудрости и, как следствие, высокого статуса и власти, в том числе над теми, кто старше, но менее преуспел в добродетельной жизни.
Златоуст о социальном статусе и социальной власти во взаимоотношениях между мужем и женой. Схожим образом Златоуст рассуждает при обращении к проблеме статуса и связанной с ним социальной власти в отношениях между супругами. Традиционно более высокое положение в семье занимает муж. Златоуст согласен с таким положением вещей, но, как и в случае со старцами, считает, что его статус не является раз и навсегда данным.
Обращаясь к истории (в христианском ее понимании) вопроса, Златоуст отмечает, что подчинение женщины мужчине не является изначальным, оно возникло лишь после грехопадения первых людей как одно из последствий этого события1. Впрочем, установленное самим Богом такое распределение ролей в семье для эмпирически наблюдаемого мира (то есть мира после грехопадения, мира, в котором существуют греховные страсти) можно воспринимать (с христианской точки зрения) в качестве аскриптивного. В пользу этого говорит указание Златоуста на необходимость сохранения его даже при несоблюдении одним из супругов своих обязанностей. С точки зрения Златоуста, причина этого заключается в том, что обязанности супругов не есть результат соглашения или стихийного развития общества, но установлены Богом, и только Он может освободить от их исполнения2. Однако все это, с точки зрения Златоуста, не отменяет условного характера аскриптивности высокого статуса мужчины в семье и, следовательно, возможности изменения распределения ролей в семье.
Златоуст рассматривает одно из них на примере вопроса о том, кто в семье имеет право «учить» (в широком смысле этого слова, который предполагает обладание социальной властью) членов семьи. С одной стороны, философ, ссылаясь на слова апостола Павла (1 Тим. 2:11–14), подчеркивает, что женщина в семье лишена подобного права, что является одним из проявлений ее более низкого (подчиненного) статуса. Запрет «учительствовать» объясняется ссылкой на грехопадение первых людей: Ева, как говорит Златоуст, «худо однажды научила Адама… Поэтому он [апостол – С.Л.] низвел ее с учительской кафедры»3. Слово «низвел» указывает на то, что до грехопадения у женщины была возможность учительствовать и подтверждает условность аскриптив-ности данного элемента статуса мужа в настоящее время (то есть после грехопадения первых людей). Особенно важно, что эта условность является не только указанием на прошлое, которое уже не актуально; Златоуст считает, что и после грехопадения женщина может получить возможность учительствовать и, шире, изменять свой социальный статус. Прежде всего, говорит святитель, женщины, имеющие опыт добродетельной жизни, могут и должны учить более молодых (и поэтому менее опытных). В подтверждение своей точки зрения святитель вновь ссылается на апостола Павла, который (в послании к Титу) предписывает, чтобы «старицы… учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие» (Тит. 2:3-5). Эту ситуацию можно считать частным случаем отношений между старшим и младшим поколением, на что указывает замечание о том, что старица имеет право учить лишь более молодых женщин (в отношении покорности мужу). Но все же даже такого рода ситуации показывают условность запрета на «учительство» для женщин.
Еще лучше эта условность видна в тех ситуациях, когда даже после грехопадения женщина имеет возможность поучать мужчину, в частности, своего собственного мужа. Понимая необычность такой ситуации и видимое противоречие сказанному по этому вопросу ранее, Златоуст говорит: «Посмотри, как блаженный Павел, наложивший на них узы, сам же снимает их. Жена, по его мнению, “аще имать мужа неверна, и той благоволит жити с нею, да не оставляет его” (1 Кор. 7, 13). Почему? “Что бо веси, жено, аще мужа спасеши” (ст. 16)? Но как, скажешь, жена может спасти? Уча его, наставляя, приводя к пониманию благочестия»4. Святитель подчеркивает, что поучение женщины не должно заключаться только в словах; как и в случае со старцами, оно должно быть явлено делами, а именно – исполнением заповедей Бога, преуспеянием в добродетельной жизни. Златоуст подчеркивает, что в описанной ситуации жена просто получает возможность поучать (прежде всего – примером собственной добродетельной жизни) мужа, но прямо говорит, что это является ее прямой обязанностью, ведь «если верующая жена, живущая с неверующим мужем, не добродетельна, то обыкновенно происходит хула на Бога», что совершенно недопустимо5. Наоборот, «если же она украшена добродетелью, то проповедь приобретает славу от нее и добрых дел ее»6, что, по мнению святителя, является не просто желательным, но и обязательным для любого христианина.
Как и в случае со старцами, Златоуст специально подчеркивает, что высокий статус мужа в семье, несмотря на видимость аскриптивности, в сущности, является достигаемым. Он указывает, что как запрет жене учить мужа, так и разрешение на такого рода деятельность обусловлены одной и той же причиной, определяющий статус любого человека: жене было запрещено учить, поскольку именно она (а не муж) была обольщена змеем в Эдемском саду. Здесь же, замечает святитель, «наоборот: если муж будет неверный, а жена верная, пусть учит, говорит, жена. Почему? Потому что она не в обольщении – она верная. Следовательно, пусть учится муж, потому что он в обольщении, – неверен. Обратно изменился, говорит, порядок учительства, пусть так же изменится и порядок господства. Видишь, – делает важное обобщение Златоуст, – как (Писание) везде показывает, что рабство есть следствие не природы, но обольщения и греха?»1.
В другом поучении, обращаясь к мужчинам, философ развивает ту же мысль, также переходя к важным обобщениям. «Мы поставлены, – говорит он, – начальствовать над женами не для того только, чтобы пользоваться правами начальствования, но чтобы первенствовать и в добродетели. Начальствующий должен главным образом показывать свое преимущество в том, чтобы превосходить добродетелью. А если его самого превосходят, то он уже не начальник»2. Кто более грешен, тот и подчиняется, кто преуспевает в добродетели, тот и начальствует, но начальствует единственно с целью содействия спасению подчиненного. Для Златоуста только такое начальство является правильным, угодным Богу.
Социальный статус и добродетельная жизнь в контексте христианской соте-риологии . Анализ представлений Златоуста об основаниях распределения статусов и социальной власти в семье и во взаимоотношениях между старшими и младшими показывает, что эти основания тождественны – преуспеяние в добродетельной жизни. Следовательно, для святителя эти статусы являются достижимыми несмотря на то, что его современники склонны были воспринимать их как аскриптивные. Сказанное не означает, что Златоуст является предшественником современных критиков традиционного распределения статусов в семье и обществе. Святитель не стремится к изменению их иерархии в зависимости от тех или иных естественных характеристик человека, не связанных с личными достижениями в добродетельной жизни. Например, он не критикует власть мужа в семье за то, что это власть именно мужа. Строго говоря, он вообще не критикует власть мужа в семье, считая ее существование нормой. «Жена, – подчёркивает он, – вторичная власть; значит, не должна требовать равенства (с мужем), так как стоит под главой»3. Святитель указывает, в частности, что для «древних жён» (жизнь которых описана в Ветхом Завете), преуспевших в добродетели, изменение социального статуса не являлось целью, хотя было возможно. Причина этого состоит в том, что такого рода изменения не требуются ни для индивидуального «преуспеяния» в добродетельной жизни, ни для того, чтобы помогать другим людям достигать успехов в борьбе с греховными страстями.
Златоуст даже прямо осуждает стремление к изменению своего социального статуса, если это является целью жизни человека, пусть и добродетельного4. Оно, как говорит святитель (рассматривая этот вопрос на примере распределения статусов в семье), бесчестит человека. «Ведь не соблюдать собственных пределов и законов, установленных Богом, преступать их, – это не возвышение, а унижение. Как желающий чужого и похищающий не принадлежащее ему не приобретает, а унижается и теряет и то, что он имел, как например было в раю, так и жена в этом случае не приобретает себе благородство мужа, но теряет и благопристойность жены»5.
И все же представления Златоуста о социальном статусе и власти содержат пусть одну, но весьма важную новую черту: святитель настойчиво подчеркивает, что любой социальный статус предполагает определенный набор требований, и чем этот статус выше – тем выше требования и тем строже обязательность их соблюдения. Соответственно, несоблюдение требований может привести к потере статуса и власти.
Зависимость представлений Златоуста о социальном статусе и власти от его религиозного (христианского) мировоззрения проявляется в выборе основания обладания социальной властью и статусом – преуспеяния в добродетельной жизни. В контексте христианского вероучения такой выбор не выглядит случайным. Для Златоуста (как и для других отцов Церкви) добродетели являются не столько моральными, сколько сотериологическими категориями, поскольку они есть важнейшее средство достижения цели жизни человека – спасения. Каждая добродетель, как отмечает старший современник Златоуста Григорий Богослов, «есть особливый путь ко спасению»6, а «конец добродетельной жизни, – пишет еще один старший современник Златоуста Григорий Нисский, – уподобление Божеству»1, «приобщение Бога»2. Последние слова позволяют воспринимать добродетельную жизнь и как онтологическую категорию, поскольку «уподобление Божеству» понимается как изменение онтологического статуса человека, как обожение. «А обожение – это, насколько возможно, уподобление Богу и единение с Ним»3. Решающее значение в этом деле для отцов Церкви имеет именно добродетельная жизнь, поскольку «уподобиться Богу – значит сделаться праведным, святым, благим и всем этому подобным»4.
Для Златоуста (как и для других отцов Церкви) любой высокий социальный статус, связанная с ним власть (как и иерархическое устройство общества в целом) в конечном итоге имеют своей целью спасение и обожение: «иерархия есть священное устроение, знание и действие, уподобляющееся, насколько это возможно, божественному и к дарованным ей от Бога озарениям соразмерно для богоподражания возводимое»5. Именно для этого Божество и «даровало иерархию на спасение и обожение всех словесных и умственных существ»6. По этой причине преуспеяние в добродетельной жизни и является тем основанием, которое необходимо для обладания высоким социальным статусом и властью, которая мыслится как «начальство, не в смысле преобладания, но в смысле попечения и руководства, в смысле преуспеяния в добродетели»7.
Другими словами, любая социальная власть (и связанный с нею статус) существует для того, чтобы способствовать спасению подчинённых этой власти, и предполагает определенное совершенство (в добродетельной жизни) обладающего этой властью, которое делает его пригодным к осуществлению своих функций. Поэтому в любой иерархии более высокие позиции должны принадлежать более достойным, тем, кто преуспел в добродетельной жизни. Следовательно, любая социальная власть мыслится прежде всего как служение, причем служение нижестоящим, что не исключает традиционных властно-репрессивных полномочий обладающего властью, но только если они необходимы для спасения подчиненных. При этом, чем выше социальный статус человека, тем больше у него обязанностей и выше степень ответственности. Он отвечает (в определенной степени – с учетом свободной воли подчиненных ему людей) уже не только за себя, но за всех, кто ему подчиняется.
Заключение . Таким образом, по мнению Иоанна Златоуста, высокий социальный статус старшего поколения в сравнении с молодыми и мужей в сравнении с женами не является неизбежным и естественным свойством коллективного бытия людей, а зависит от определенных условий, несоблюдение которых может приводить к значительным изменениям. Основанием для обладания высоким статусом являются успехи в добродетельной жизни. У определенных категорий людей (старцы, мужья) есть естественные преимущества, облегчающие им осуществление добродетельной жизни. Но если они не используются или используются недостаточно, в результате чего человек, обладающий более низким статусом и находящийся в подчинении, начинает превосходить своего начальника в добродетели, последний теряет свою власть над подчиненным и свой высокий статус; они могут и даже должны поменяться местами в социальной иерархии. В свою очередь добродетельная жизнь мыслится как главное средство спасения и обоже-ния. В этом проявляется влияние религиозного (христианского) мировоззрения Златоуста на его представления о социальном статусе.
Сказанное не исчерпывает всех аспектов рассматриваемой темы. За пределами остаются такие важные для Златоуста вопросы, как любовь и единство8. Однако их изучение выходит за рамки данного исследования и требует отдельного внимания.
Список литературы Влияние христианского вероучения на осмысление феномена социального статуса в проповедях Иоанна Златоуста
- Брендле Р. Иоанн Златоуст. Проповедник, епископ, мученик. М., 2008. 208 с.
- Грыжанкова М.Ю. Иоанн Златоуст в социуме ранней Византии и России. Саранск, 2002. 83 с.
- Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: в 15 т. М., 2004. Т. 5: Социальная структура. 1096 с.
- Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Этико-богословское исследование. Киев, 2006. 694 с.
- Ларше Ж.-К. Исцеление духовных болезней. Введение в аскетическую традицию Православной Церкви. Сергиев Посад, 2018. 763 с.
- Науки о человеке: история дисциплин / под ред. А.Н. Дмитриева, И.М. Савельевой. М., 2015. 651 с.
- Носачев П.Г. «Отреченное знание»: изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI вв. Историко-анали-тическое исследование. М., 2023. 504 с.
- Смирнов С.И. Духовный отец в Древней Восточной Церкви. История духовничества на Востоке. М., 2003. 528 с.
- Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М., 2012. 526 с.
- Hanegraaff W. Empirical Method in the Study of Esotericism // Method & Theory in the Study of Religion. 1995. Vol. 7/2. P. 99-129. https://doi.org/10.1163/157006895x00342.
- Linton R. The Study of Man. N. Y., 1936. 503 p.