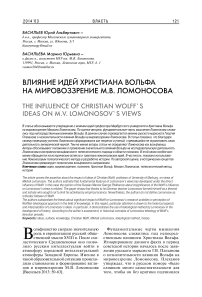Влияние идей Христиана Вольфа на мировоззрение М.В. Ломоносова
Автор: Васильев Юрий Альбертович, Васильева Марина Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается утверждение о влиянии идей профессора Марбургского университета Христиана Вольфа на мировоззрение Михаила Ломоносова. По оценке авторов, фундаментальные черты мышления Ломоносова сложились под непосредственным влиянием Вольфа. В данном случае опровергается мнение русского марксиста Георгия Плеханова о незначительности влияния Вольфа на мировоззрение Ломоносова. В статье показано, что благодаря своему немецкому учителю Ломоносов сформировался как теоретик и ученый, стремившийся не ограничивать свою деятельность эмпирической наукой. Тем не менее авторы статьи не определяют Ломоносова как вольфианца. Авторы обосновывают положение о проявлении значительного влияния Вольфа на исследовательскую деятельность Ломоносова в восприятии вольфианского телеологического подхода в области познания. В этой связи особое внимание обращается на исторические аспекты и трактовки ломоносовских идей. В частности, показано использование Ломоносовым телеологического метода в разработке истории. По авторской оценке, в исторических концептах Ломоносова превалирует телеологизм вольфовского направления.
Идеи, мировоззрение, познание, христиан вольф, михаил ломоносов, телеологический метод, история
Короткий адрес: https://sciup.org/170167375
IDR: 170167375
Текст научной статьи Влияние идей Христиана Вольфа на мировоззрение М.В. Ломоносова
В ольфианство сыграло значительную роль в европеизации русской общественной мысли XVIII в. После схоластического Cредневековья оно позволило русским интеллектуалам войти в атмосферу передовой интеллектуальной атмосферы Западной Европы. Именно в такой образовательной ситуации происходило становление и формирование взглядов и мировоззрения М.В. Ломоносова [Васильев 2013: 50-63].
Фундаментальные черты мышления Ломоносова сложились под непосредственным влиянием Христиана Вольфа. Игнорирование данного факта в период советской истории началось после заявления русского марксиста Г.В. Плеханова о незначительности влияния Вольфа на мировоззрение Ломоносова. Плеханов утверждал, что в русском поморе «было слишком много самостоятельности для того, чтобы он без критики подчинился чьему-нибудь влиянию» [М.В. Ломоносов: pro et contra… 2011: 591]. Однако в настоящее время опровергнуты прежние мифологемы, необоснованно представлявшие Ломоносова «убежденным материалистом». Признано, что великий русский ученый, вопреки прежним канонам, не был сторонником материализма – от Ломоносова начинается традиция русского научно-философского реализма.
Представляется, что именно благодаря Вольфу Ломоносов сформировался как теоретик и ученый, стремившийся не ограничивать свою деятельность эмпирической наукой. Тем не менее его нельзя назвать вольфианцем: Ломоносов воспринял лишь часть научных и философских идей Вольфа, главным образом в области познания.
Вольф стремился посредством универсального синтеза всей совокупности накопленных знаний представить его в форме системы. Он стал одним из родоначальников просветительского движения в Германии и в Европе, выдающимся представителем классического рационализма эпохи классической метафизики. Сомнение Вольфа в принципах и методах традиционного рационализма оказало несомненное влияние на Ломоносова. Унаследованное от Вольфа сочетание теоретических принципов и опытных оснований в научном познании отличало взгляды Ломоносова от прямолинейности и односторонности, присущей картезианскому рационализму. В системе Вольфа нашли выражение не только рациональные формы знания, но и формы его непосредственной чувственной данности. Познание отождествлялось не только с сущностью познаваемого объекта или предметного мира, но и одновременно с познающим субъектом, человеческой душой и ее способностями. У Вольфа Ломоносов перенял восприятие знания, основанное на фундаменте философской мысли.
Наиболее значимо влияние Вольфа на исследовательскую деятельность Ломоносова проявилось в восприятии вольфианского телеологического подхода в области познания. При телеологическом подходе понимание мира связано со значимостью и ценностью его для человека, его потребностей и целей, желания блага и добра. Действительный мир представляется как целесообразное образова- ние, в котором все события оказываются подчиненными не только причинноследственным, но и целевым (целесообразным) связям и отношениям, в котором зависимость действий от причин, последующего от предшествующего может быть подменена отношением средств и целей. При таком рассмотрении возникновение предшествующих причин оказывается возможным благодаря порождаемым ими действиям или будущим последствиям или ради них [Христиан Вольф… 2001: 85, 115].
Стремление к возможной «ясности» (истине) в сочетании с пониманием пределов человеческого познания проявилось в отношении древних времен. Отмечая невозможность получения полного знания о древности в героической поэме «Петр Великий» («Так должно древности простой быть и не ясной»), Ломоносов восклицал: «Открой мне бывшия, о древность, времена! / Ты разности вещей и чудных дел полна. / … С натурой сродна ты, а мне натура – мать: / В тебе я знания и в оной тщусь искать» [Ломоносов 1986г: 295]. Продолжая идеи своего учителя Вольфа, Ломоносов настаивал на том, что человеческим мыслям предписан предел – нельзя постигнуть Бога. Исторический процесс определялся им как Божественное провидение и осуществление Высшего промысла. Для России проявление Божественного промысла олицетворялось с образами «храбрых государей» в отечественной истории, «умножающих величие и славу российского народа». Наиболее ярким их представителем назывался Петр Великий – «человек, Богу подобный» [Ломоносов 1986д: 244, 245, 262].
Удивительно после приведенных ломо- носовских мыслей воспринимать господствовавшие в течение многих десятилетий в отечественной историографии оценки по поводу «атеистической направленности его творчества». При этом следует отметить далеко не ортодоксальный для христианства ломоносовский взгляд на Бога, в котором, как представляется, отложился также отпечаток опыта мировоззренческих исканий в период поморского юношества и общения со старообрядцами Севера (в Северо-Двинском крае в то время было много раскольников и старообрядцев, проповедующих «правую веру»). Можно предположить, что осознанный ломоносовский взгляд в данном вопросе оформился в период его обучения в Германии, в первую очередь под влиянием Вольфа. Немецкое Просвещение, в отличие от радикального французского, не противопоставляло науку и веру. Ломоносов твердо придерживался данного принципа. В обращении к Священному Писанию он следовал Ветхому Завету – в ломоносовском наследии не встречаются новозаветные сюжеты. В религиознофилософской позиции Ломоносова свобода мысли не мешала религиозной вере, по своей сути внецерковной. В подобном проявлении секуляризации мышление не отделялось от христианства, но отдалялось от церкви (известно негативное отношение Ломоносова к духовенству) [М.В. Ломоносов: pro et contra… 2011: 720, 722].
Использование Ломоносовым телеологического метода в разработке истории, как правило, оценивается односторонне и подменяется проявлением патриотизма (в различных вариациях, в зависимости от политических и идеологических взглядов авторов – от «горячего» или «глубочайшего» патриота до «националиста»). Однако далеко не все так просто. Несомненно, Ломоносов был ярким патриотом своего Отечества, утверждавшим величие и славу своей Родины. Это был патриотизм национальный, народный, но не лубочно-имперский. В ломоносовском патриотизме проявились качества поморского характера и духа: неповторимый тип русского человека, в становлении мировоззрения которого лес и вода являлись определяющими началами родного мироздания, дополненными отсутствием ментальных архетипов крепостного права и монголо-татарского ига.
В исторических концептах Ломоносова превалирует телеологизм вольфовского направления. Государственное могущество в ломоносовском понимании происходит из трех источников: первое основание связано с внутренней стабильностью, безопасностью и поддержкой подданных, второе – с военной мощью, а также благоприятной ситуацией мира и выгодных отношений с соседями, третий источник могущества государства основан на внешней торговле [Ломоносов 1986в: 436]. Российская империя по данным критериям, предложенным Ломоносовым, рассматривалась им на равном уровне с лучшими европейскими странами, а многие – превосходила. Возникла актуальная потребность сделать из истории похвальное слово русскому народу: история «дает государям примеры правления, подданным – повиновения, воинам – мужества, судиям – правосудия, младым – старых разум, престарелым – сугубую твердость в советах, каждому незлобивое увеселение, с несказанною пользою соединенное. Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела пра-отцев наших?» [Ломоносов 1986б: 50].
Величие и могущество России, сопоставимое с силой ведущих держав, объяснялось крепостью самодержавной государственной власти, наделенной сакральным свойством. Он отмечал «несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержав-ством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения». Упрек Ломоносова в адрес Ярослава Мудрого по поводу предоставления чрезмерной вольности новгородцам является показательным примером. В качестве обобщающего заключения предложен следующий тезис: после того, как первые варяжские князья «утвердили самодержавство», Россия «самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась. Благонадежное имеем уверение о благосостоянии нашего отечества, видя в единоначальном владении залог нашего блаженства, доказанного столь многими и столь великими примерами» [Ломоносов 1986а: 50-51, 130].
Образцом и вершиной самодержавного правления, по оценке Ломоносова, являлась эпоха Петра Великого. Период правления Петра I отождествлялся именно с целой исторической эпохой: Ломоносов считал его одним из самых великих госуда-рейвмировойистории,идеаломправителя. Подобное отношение к Петру Великому, вероятно, возникло у Ломоносова под влиянием Христиана Вольфа, лично знавшего российского императора и выполнявшего неоднократно его поручения, связанные с организацией Академии наук в России. Ломоносовская вдохновленность государственными идеями великого преобразователя основывалась также на рассказах о пребывании Петра на его родине, в Поморье, оставшихся в памяти с детства.
Ломоносовское сравнение Петра I с великими правителями Рима было не в пользу последних: деяния ряда поколений и знаменитых династий римских правителей в период наивысшего расцвета Римской империи в течение двух с половиной столетий сопоставимы, с его точки зрения, с тем, что осуществлено Петром всего за четверть века [Ломоносов 1986д: 262]. Ломоносовская твердая позиция в данном вопросе в советской историографии или замалчивалась, или подвергалась суровой критике за «наивность в области политики», по выражению Г.В. Плеханова. Плеханов даже невольно опровергал самого себя, объясняя причину «монархических» взглядов русского ученого: оказалось, что дело заключалось все-таки во влиянии Вольфа, которое, как отмечалось выше, он всячески пытался завуалировать. В данном случае русский марксист пояснял, что как и для Вольфа, идеалом для Ломоносова являлось «полицейское государство, руководимое просвещенным абсолютным монархом», а примером служило правление Петра Первого [М.В. Ломоносов: pro et contra… 2011: 595, 589-590].
Представляется, что официально объявленное в России начало зарождения российской государственности, связанное с призванием Рюрика, никак не может соот- ветствовать ломоносовской исторической схеме. Начало Руси, по Ломоносову, «не должно производить и начинать от времени пришествия Рурикова к новгородцам, ибо оно широко по восточно-южным берегам Варяжского моря простиралось от лет давных» [Ломоносов 1986д: 75]. Конечно, 1 150 лет – красивая дата. Более того, начало отсчета русской истории от 862 года есть признание и торжество идей его непримиримого оппонента – Августа Людвига Шлецера (последний утверждал, что русская история начинается от пришествия Рюрика и основания «русского царства». Шлецер заявлял, что до призвания германоязычных варягов-русов не было Русского государства, а следовательно и русской истории). Признание Ломоносовым начала русской истории задолго до Рюрика основано на самой структуре его «Древней российской истории», в которой лишь вторая часть, повествовательная по содержанию, открывается началом княжения Рюрика.
Примечательно, что Ломоносов отделил вопрос о зарождении государственности от начала династии Рюриковичей – до призвания Рюрика в пределах русских территорий уже происходил процесс формирования основ государственности. Рецепция идей Христиана Вольфа позволила М.В. Ломоносову выработать оригинальный подход к интерпретации исторического процесса. Представляется, что наследие Ломоносова в историопи-сании можно по достоинству оценить лишь с учетом историософской парадигмы. Именно в этой области гипотезы и догадки великого российского мыслителя позволяют рассматривать комплекс его идей в качестве передового интеллектуального знания в области истории середины и второй половины XVIII в. Методы Ломоносова в области познания соответствовали общей тенденции русской интеллектуальной мысли, которая проявлялась во внимании к проблемам историософии, обращенности к вопросам о смысле истории.