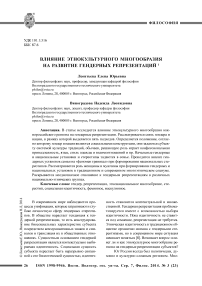Влияние этнокультурного многообразия на развитие гендерных репрезентаций
Автор: Леонтьева Елена Юрьевна, Виноградова Надежда Леонидовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (23), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется влияние этнокультурного многообразия южнороссийского региона на гендерные репрезентации. Рассматривается связь гендера и нации, в рамках которой выделяется пять подходов. Определяется положение, согласно которому гендер и нация являются социальными конструктами, они задаются субъекту системой культуры традиций, обычаев, решающую роль играет конфессиональная принадлежность, язык, стиль одежды и взаимоотношений и пр. Начальные гендерные и национальные установки и стереотипы задаются в семье. Проводится анализ гендерных установок семьи на «феномен границы» при формировании национальных стереотипов. Рассматривается роль женщины и мужчины при формировании гендерных и национальных установок в традиционном и современном многоэтническом социуме. Раскрывается неоднозначное отношение к гендерным репрезентациям в различных национально-этнических группах.
Гендер, репрезентация, этнонациональное многообразие, стереотип, социальная идентичность, феминное, маскулинное
Короткий адрес: https://sciup.org/14974647
IDR: 14974647 | УДК: 101.1:316
Текст научной статьи Влияние этнокультурного многообразия на развитие гендерных репрезентаций
В современном мире наблюдаются процессы унификации, которые затрагивают и глубоко личностную сферу гендерных стереотипов. В обществе нарастает тенденция к гендерной репрезентации, то есть конструирование биосоциальных характеристик субъекта посредством коммуникативных знаков и символов и трансляция их в общественных отношениях. Сущностным основанием гендерной репрезентации является контекстуально выбираемая идентичность. Социальная сущность субъекта перестает быть неразрывно связанной с его биологической сущностью, идентич- ность становится контекстуальной и множественной. Гендерная репрезентация проблема-тизируется вместе с возможностью выбора идентичности. Пока идентичность не ставится под сомнение, репрезентация не требуется. Этническая идентичность в традиционном обществе органично связана с гендерными стереотипами, но в современном мире ситуация начинает меняться [8]. Возникает вопрос: влияет ли и как этнокультурное многообразие региона на гендерные репрезентации субъектов?
Юг России всегда был политически, духовно и культурно сложным регионом. Мно- гогранное сплетение геофизических условий, территориальных и политических образований предопределили его неоднозначное социокультурное пространство. Это пространство во многом определяется людьми, важнейшими характеристиками которых являются заданные при рождении половые и этнонациональ-ные особенности. Половые различия традиционно предопределяют гендерные стереотипы поведения. Принадлежность к этносу и нации позволяет говорить об этнических и национальных стереотипах субъекта. До конца XX в. взаимосвязь гендерных и этнонацио-нальных характеристик человека практически не рассматривалась. С конца прошлого столетия начали появляться работы, усматривающие и анализирующие взаимозависимость этих двух фундаментальных социальных характеристик (Дж. Моссе, Т. Эриксен, Н. Ювал-Дэвис, Ф. Антиас, А. Макклинток, Г. Д. Гачев, И.Н. Тартаковская, О.В. Рябов и др.).
У В.М. Нилова, ссылающегося на работы Х. Энтиас и Н. Ювал-Дэвис, находим, что «говорить отдельно о классе, гендере, этнич-ности и расе, неэвристично, потому что каждый контекст обусловлен синергетической связью этих категорий. Только в совокупности гендер, класс и раса (этничность) создают синдром социальной идентичности, а следовательно, и оказывают влияние на статус индивида» (цит. по: [2, с. 124]). В сегодняшнем гуманитарном дискурсе можно выделить пять подходов относительно связи нации и гендера. Первый и второй подходы взаимно симметричны и говорят о том, что гендер не влияет на национальные характеристики, в то же время национальность не воздействует на гендер (Э. Геллнер, Б. Тернер, М. Дели). Третий предлагает рассматривать систему гендерного и национального неравенства как одновременно сосуществующие. Четвертый подход предполагает изначальное деление на расы, в зависимости от принадлежности к которым рассматривается связь с гендерными характеристиками (Б. Хукс). Пятый подход усматривает тесную взаимосвязь между гендерными и национальными (этническими) характеристиками. Как отмечает И.Н. Тартаковская, зависимость между гендерным и национальным «не может быть понята с помощью простого суммирования гендерной теории и теории нации/этничности» [7]. Согласимся с автором и отметим необходимость анализа данной взаимозависимости.
Обратим внимание на следующее положение: и гендер, и нация являются социальными конструктами. Они задаются субъекту системой культуры, традиций, обычаев, решающую роль играет конфессиональная принадлежность, язык, стиль одежды и взаимоотношений и пр. Все перечисленные и многие другие атрибуты социальности призваны структурировать, упорядочивать общество, вписать субъект в определенную его ячейку в «воображаемое сообщество», призванное делить все пространство социального бытия на Своих и Чужих. Утверждение субъекта в роли Своего или Чужого происходит через систему знаков и символов, которые предопределяют «границу». Один из ведущих российских исследователей национальных особенностей гендера О.В. Рябов отмечает «способность гендерного дискурса выполнять функции маркера, механизма включения/исключения, конструирующего символические границы между сообществами. Поскольку конечность представляет собой одну из фундаментальных характеристик нации, постольку граница, отделяющая Своих от Чужих, – это ключевой элемент данного сообщества [5]. И далее он отмечает, что «без образа Чужих было бы невозможно объяснить, зачем ту или иную группу людей необходимо выделять в отдельную нацию (почему, скажем, шотландцы – это не англичане, а украинцы – это не русские)» [там же].
Феномен «границы» тесно связан с социокультурными стереотипами. В большинстве справочников и словарей под стереотипом понимают стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, определенный в ценностном отношении образ, представление о каком-либо объекте. В любом из определений подчеркиваются такие характерные черты стереотипа, как устойчивость, упрощенность, типичность. Гендерными стереотипами являются конструкты феминности и маскулинности, они традиционно базируются на половых различиях, и в зависимости от них приписывают определенное ролевое поведение субъекта в обществе.
Национальные стереотипы не имеют жесткой природной привязки. Новорожденный мальчик или девочка не могут быть фактически идентифицированы с определенной нацией или этносом. Национальные стереотипы начинают задаваться при рождении через язык, формы обращения матери и отца, игры и пр., то есть формируются всей системой культуры конкретного сообщества. Собственно, отсутствие в национальном конструкте явного, бесспорного, физического признака, который в виде первичных половых признаков присутствует в гендере, и делает связку гендера и нации безусловной. В традиционных гендерных ролях заложена трансляция и формирование национальных стереотипов. «Важной функцией гендерных стереотипов в национализме является приближение идеи нации к повседневному опыту индивида» [5].
Повседневный опыт каждого конкретного субъекта коренится в семье, исходит из отношений во внутрисемейном окружении. Недаром семья получила наименование «ячейка общества», и в период существования СССР весь многонациональный Союз метафорично соотносили с семьей. Гендерные стереотипы семьи достаточно устойчивы и поддерживают стабильное состояние социальной системы. «Аналогия с семьей, включающая восприятие нации как формы взаимодействия мужского и женского начал, является эффективным способом позиционирования этого сообщества как естественного. Кроме того, семейная метафора (равно как и связанная с ней идея иерогамии) выступает тем фактором, который обеспечивает и подчинение индивида государству, и его готовность жертвовать собственной жизнью во имя нации. Вера в бессмертие, гарантия от забвения – данные человеческие потребности также реализуются через убежденность в том, что нация представляет собой не механическую совокупность случайных людей, а сообщество, связанное единым происхождением и отношениями родства» [там же].
Традиционно в семье мужчина ассоциируется с публичной, а женщина с приватной сферой. Конструирование национального стереотипа начинается с первых минут жизни человека, и ответственность за него традиционно несет женщина. Женщина – мать, бабушка, кормилица, нянька – формирует национальные стереотипы посредством языка, народных ска- зок, эпосов, былин, обыденных традиций и повседневных установок. Мужчина только прививает соответствующие публичные (профессиональные) качества уже достаточно взрослому ребенку, сознание которого сформировано в определенной национальной доктрине. Ребенок уже получил систему означиваний от матери и идентифицирует себя с определенной нацией (этносом), от отца он получает навыки взрослого члена национального сообщества. «Ты – казак!» – обращается отец к сыну-подростку и далее идет высказывание ряда должествования, соответствующее стереотипу «казака». Мальчик готов воспринять данные обязанности, потому что идентифицирует себя с «казаком» и принимает все стереотипы соответствующего национального поведения, привитые и взращенные матерью.
Анализ ряда работ, касающихся роли женщины в различных национально-этнических общностях Юга России [1; 4; 6], доказывает, что именно женщина, традиционно занимаясь воспитанием детей в периоды длительного отсутствия мужа, прививает и формирует у ребенка целостную социальную идентичность, которая включает всю совокупность гражданских, статусных, национально-этнических, гендерных различий. Разделение последних уместно только в теоретическом дискурсе, для удобства исследования, более детального анализа процессов формирования различных идентичностей. Реальный же процесс взращивания и воспитания детей континуален по своей сути, и исключительную роль в этом процессе играет женщина, реализуя свою традиционную гендерную роль – матери, няни, кормилицы. Таким образом, в традиционном обществе ответственность за формирование национально-этнических стереотипов лежит прежде всего на женщине, которая, неуклонно следуя заданным ей гендерным стереотипам, в соответствующих традициях (в том числе и национально-этнических) воспитывает и мальчиков, и девочек. Попытка женщины выйти за «границу» своей приватной сферы и в публичную сферу, тем самым взяв на себя обязанности иной гендерной роли, осуждается, так как несет в себе угрозу стереотипам национально-этнического дискурса.
Иначе говоря, с точки зрения традиционного патриархального общества репрезен- тация гендерных стереотипов грозит размыванию границ между Своими и Чужими; ставит под вопрос однозначность формирования той или иной национально-этнической принадлежности.
Для прояснения особенностей явления гендерных репрезентаций в полиэтническом пространстве южнороссийского региона обратим внимание на национальный (этнический) состав данного региона. По данным 2010 г. ЮФО включает Республику Адыгею, Республику Калмыкию, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области. В этнический состав входят (в порядке убывания численности): русские – 83,7 %, армяне – 3,2 %, украинцы – 1,5 %, казахи – 1,5 %, калмыки – 1,2 %, татары – 0,9 %, адыгейцы – 0,9 %, казаки – 0,4 %, азербайджанцы – 0,4 %, турки – 0,4 %, цыгане – 0,3 %, белорусы – 0,3 %, чеченцы – 0,2 %, грузины – 0,2 %, немцы – 0,2 %, корейцы – 0,2 %, греки – 0,2 %, даргинцы – 0,2 % и далее более двадцати этносов с численным составом менее 0,1 % от общего населения региона [3].
Около 40 этносов присутствуют на территории региона, и каждый из них имеет собственную национальную идентификацию и разграничивает Своих и Чужих. Без расстановки подобных социальных маркеров немногочисленному, самобытному этносу просто не выжить. Поэтому реализация женщиной традиционной гендерной роли позволяет формировать соответствующую социальную идентичность ребенка и, как следствие, его национально-этническую идентичность. Отказ от реализации женщиной своей традиционной роли матери, няни ставит под угрозу само выживание нации или этноса.
Однако мир развивается. Невозможно сегодня жить так, как регион жил вчера и позавчера, глобализация и унификация, открытые границы предоставляют новые условия существования всем членам социума. Представители этносов, получив традиционные гендерные установки, зачастую вынуждены их репрезентировать, то есть трансформировать, корректировать, видоизменять устоявшиеся и привитые в детстве стереотипы гендерного поведения. Причем наблюдается зависимость: чем малочисленнее этнос, чем сложнее складывалась его историческая судьба, тем негативнее его представители относятся к репрезентации гендерных стереотипов. Небольшому этносу важно сохранить традиционные роли, что обеспечит передачу национальной самобытности и существование этноса (нации). В этом случае жестко предопределяется гендерная феминная приватная и маскулинная публичная доктрина. Покушение на гендерные репрезентации и попытка женщины выйти в публичную сферу, а мужчины в приватную расцениваются как покушение на национальную самобытность.
Иначе происходят гендерные трансформации в крупных этносах. Гегемонная маскулинность, как и феминность, оказывается не столь востребованными, как это было в периоды физического выживания человека. В своем классическом виде современные гендерные роли оказываются неактуальными. Другими словами, в современных социокультурных условиях большими шансами на достижение успеха, карьерного роста, востребованности у женщин пользуются те мужчины, которые обладают и проявляют не маскулинные, а, скорее, феминные качества. В силу этого презентация мужчиной классических маскулинных черт оказывается ненужной и не приводит к желаемым результатам. Напротив, репрезентация, то есть переопределение или корректировка уже сформированного гендера, приносит более осязаемые результаты. Агрессия, сила, напор, иногда жесткость и бескомпромиссность в современном обществе, где борьба за физическое выживание не является основной, теряют прежнюю значимость, потому что не приводят к желаемой цели. Иные качества, в большей степени присущие феминной идеологии (мягкость, нежность, способность к компромиссу), оказываются более востребованными.
В различных этнических группах, следуя требованиям сходных гендерных традиций, сохранение устоявшихся полоролевых функций мужчин и женщин приобретает символический характер. Реальность и современный мир, в который интегрированы многообразные культурные и национальные группы южнороссийского региона требует более мягкой презентации, корректировки собственного гендера. В силу востребованности качеств и черт иного полоролевого поведения актуальной ста- новится репрезентация, то есть вызванная социальными обстоятельствами перемена или корректировка традиционного гендера. Свое выражение репрезентация находит в допустимости и принятии черт феминных (для мужчин) и маскулинных (для женщин).
При этом допустимость гендерных репрезентаций в большей степени принимается и признается представителями крупных национально-этнических групп. Для небольших этносов этот процесс оказывается менее приемлем, так как сама реализация женщиной традиционной гендерной роли способствует сохранению этноса, формированию у подрастающего поколения соответствующей национально-этнической идентичности.
Список литературы Влияние этнокультурного многообразия на развитие гендерных репрезентаций
- Гасанова, З. З. Воспитание детей в духе патриотизма и дружбы народов в семье: автореф. дис.... канд. пед. наук/Гасанова Загидат Зайнулабидовна. -Махачкала, 2008. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/vospitanie-detei-v-dukhe-patriotizma-idruzhby-narodov-v-seme#ixzz2zJo5w6Hk (дата обращения: 15.03.2014). -Загл. с экрана.
- Гендерные стереотипы в современной России/ред.: И. Б. Назарова, Е. В. Лобза. -М.: МАКС Пресс, 2007. -124 с.
- Межэтнические и конфессиональные отношения в Южном федеральном округе: эксперт. докл./под. ред. В. А. Тишкова, Л. Л. Хоперской, В. В. Степанова. -Ростов н/Д: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2013. -114 с.
- Мутиева, О. С. Роль женщины-казачки в жизни населения Нижнего Терека в XIX -начале XX в.: автореф. дис.... канд. ист. наук/Мутиева Оксана Саидовна. -Махачкала, 2004. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/rolzhenshchiny-kazachki-v-zhizni-naseleniya-nizhnegotereka-v-xix-nachale-xx-vv#ixzz2zJcc3PfJ (дата обращения: 10.03.2014). -Загл. с экрана.
- Рябов, О. В. Гендерное измерение национализма: Методологические проблемы исследования/О. В. Рябов//Вестник Ивановского государственного университета. Серия «История. Философия. Педагогика. Психология». -2008. -Вып. № 3. -С. 12-27.
- Семья и семейные традиции казаков. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.npi-tu.ru/assets/files/kazaki/posobie/5.3.pdf (дата обращения: 10.03.2014). -Загл. с экрана.
- Тартаковская, И. Н. Гендер и национальность/И. Н. Тартаковская. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://nashaucheba.ru/v18947/тартаковская_и.н._гендер_и_национальность (дата обращения: 12.03.2014). -Загл. с экрана.
- Vinogradova, N. L. Rational and Non-Rational Reasons for Gender Representaition/N. L. Vinogradova, E. Y. Leontyeva//World Applied Sciences Journal. -2014. -№ 31 (3). -P. 298-301.