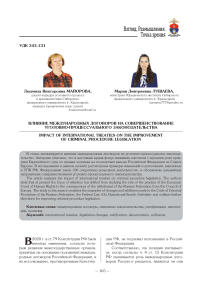Влияние международных договоров на совершенствование уголовно-процессуального законодательства
Автор: Майорова Л.В., Лущаева М.Д.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 1 (54), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние международных договоров на уголовно-процессуальное законодательство. Авторами отмечено, что в настоящее время фокус внимания сместился с изучения роли практики Европейского суда по правам человека на последствия выхода Российской Федерации из Совета Европы. В исследовании в данном аспекте рассмотрены примеры изменений и дополнений, внесенные в УПК РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», и обозначены дальнейшие направления совершенствования уголовно-процессуального законодательства.
Международные договоры, изменение законодательства, ратификация, денонсация, коллизии
Короткий адрес: https://sciup.org/140304511
IDR: 140304511 | УДК: 343.131
Текст научной статьи Влияние международных договоров на совершенствование уголовно-процессуального законодательства
В2020 г. в ст.79 Конституции РФ были внесены изменения, согласно которым решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащем Конститу- ции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.
Соответственно, эта позиция учитывается, когда согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ оценивается роль международных договоров России и решается, являются ли они составной частью ее правовой системы и имеют ли приоритет перед национальными законами в случае коллизии. В свою очередь, в силу ч. 3 ст. 1 УПК РФ международные договоры России являются составной частью законодательства, регулирующего уголовное производство. Формулировка о применении международного договора, если им установлены иные права, чем предусмотрены УПК РФ, повторяет положения Конституции РФ. Оставляя за рамками данного исследования вопросы отличия таких понятий, как «часть правовой системы» и «часть законодательства», отметим лишь, что влияние международных договоров на уголовно-процессуальное законодательство невозможно также и недооценивать.
При этом ранее в доктрине, как правило, основной акцент был сделан на анализ роли Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – Конвенция 1950 г.) и практики Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) [1; 6, с. 172177; подр.: 9, с. 647-649]. Однако выход России из Совета Европы 16 марта 2022 г. сместил фокус внимания в сторону последствий прекращения членства в международной организации. В связи с этим возникают два основных вопроса: 1) влечет ли выход государства из международной организации автоматическое прекращение действия для него всех международных договоров, принятых в ее рамках; 2) обязано ли государство в связи с прекращением действия международного договора внести изменения в национальное законодательство, вернувшись к первоначальной редакции, существовавшей до ратификации соответствующего договора? Поскольку в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года ответов на эти вопросы не содержится, необходимо обратиться напрямую к текстам договоров, заключенных в рамках Совета Европы.
Так, в соответствии со ст. 31 Европейской Конвенции о выдаче 1957 г. любая сторона может ее денонсировать путем направления уведомления Генеральному секретарю Совета Европы; через 6 месяцев после даты получения Генеральным секретарем Совета такого уведомления денонсация вступает в силу1. Аналогичное положение содержится в ст. 29 Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 1999 г.2 и многих других. Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку Российская Федерация не денонсировала данные Конвенции, то они продолжают действовать в отношении нее и подлежат применению на ее территории.
Другие положения содержатся в Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. В ст. 15 прямо указано, что Конвенция теряет силу для государства в случае его выхода из Совета Европы или прекращения его членства в Совете Европы3. В связи с этим данная Конвенция утратила силу автоматически 16 марта 2022 г. Указание ее в Федеральном законе «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» имеет больше формальный характер4. Следовательно, ответ на первый из поставленных вопросов будет отрицательным.
Что касается второго вопроса, то здесь все изменения можно условно разделить на две группы: технические (обеспечивающие механизм действия международного договора в Российской Федерации) и содержательные (гарантирующие соответствие национального законодательства международным нормам). К первым из них можно отнести, например, п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, в соответствии с которым установление Европейским судом по правам человека нарушений положений Конвенции 1950 г. относилось к основаниям возобновления производства по уголовному делу и который был признан утратившим силу1. А также п. 3 ч. 4 ст. 414 УПК РФ и ч. 5 ст. 415 УПК РФ – конкретизирующие порядок применения ст. 413 УПК РФ2. А ко вторым – принципы уголовного судопроизводства, которые были сформулированы с учетом положений Конвенции 1950 г. и практически не претерпели изменений за последние два года (а внесенные изменения не были связаны с выходом Российской Федерации из Совета Европы). Исходя из этого, только первая группа изменений обязательна, поскольку она обеспечивает стройность и системность законодательства.
Помимо Европейской конвенции 1950 г. на развитие уголовно-процессуального законодательства существенное влияние оказали и другие международные договоры. Развитие системы принципов российского правосудия в науке и законодательстве основано и на отечественном опыте, и на действующих международных обязательствах, и на опыте других правовых систем. Например, принцип судебного разбирательства в разумный срок закреплен в многочисленных международных актах: п. 3с ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; п. 1 ст. 6 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека; п. 1d ст. 7 Африканской хартии прав человека и народов; п. 2 ст. 47 Хартии Европейского союза об Основных правах; ст.13 Арабской хартии прав человека; п.1 ст.8 Американской конвенция о правах человека и др. и др.
В Международном пакте о гражданских и политических правах (п. 3с ст. 14) закреплено право подсудимого «быть судимым без неоправданной задержки»3. А праву на судебное разбирательство в разумный срок, конечно, должна корреспондировать обязанность государства реально обеспечить осуществление правосудия без неоправданных задержек и волокиты. В решениях ЕСПЧ отражена авто- номная концепция права на разумный срок при производстве по уголовным делам.
Введение в российское право понятия «разумный срок» как критерия обеспечения права на справедливое судебное разбирательство было обусловлено необходимостью пересмотра сложившихся российских подходов к значению сроков судебного разбирательства для обеспечения права на судебную защиту по смыслу статьи 46 Конституции РФ. Возникла необходимость не только уточнить сущность и критерии разумных сроков, обосновать ценности, заложенные в основу общеевропейского подхода к определению разумности срока судебного разбирательства, но и выяснить, как данное понятие соотносится с установленными российским законодательством сроками рассмотрения дел.
В российском уголовно-процессуальном законодательстве данный институт был закреплен в 2010 г.4 и постоянно совершенствуется, в том числе решениями Конституционного Суда РФ, постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, а также материалами судебной практики.
Так, Конституционный Суд РФ в постановлении от 25 июня 2013 г. N 14-П указал: «Одним из важных факторов, определяющих эффективность восстановления нарушенных прав, является своевременность защиты прав участвующих в деле лиц. Это означает, что правосудие можно считать отвечающим требованиям справедливости, если рассмотрение и разрешение дела судом осуществляется в разумный срок. Соответственно, устанавливаемые федеральным законодателем институциональные и процедурные условия осуществления процессуальных прав должны отвечать требованиям процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты и тем самым обеспечивать справедливость судебного решения, без чего недостижим баланс публично-правовых и частноправовых интересов»1.
Также необходимо напомнить: многие положения УПК РФ уже разрабатывались с учетом действующих конвенций. Например, особые правила производства процессуальных действий в отношении несовершеннолетних (как несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля, так и несовершеннолетних подозреваемого и обвиняемого) были сформулированы с учетом норм, содержащихся в Конвенции о правах ребенка 1989 г., и ряда международных документов, носящих рекомендательный характер [4]. Однако процесс совершенствования законодательства непрерывен. Так, ратификация Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в 2013 г.2 повлекла внесение соответствующих дополнений и изменений3. Более того, доктринально обсуждается, что и актуальная редакция УПК РФ не вполне соответствует международным стандартам. К.В. Муравьев отмечает: несмотря на то, что ч. 2 ст. 423 УПК РФ обязывает в каждом случае при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому обсуждать возможность его отдачи под присмотр, правовая регламентация присмотра содержит существенные недостатки [10, с. 54]. В связи с этим на практике данная мера пресечения применяется реже, чем заключение под стражу, что не позволяет говорить об успешной имплементации п. «b» ст. 37 Конвенции о правах ребенка: «арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода време-ни»4. Л.И.Лавдаренко также подчеркивает, что особый подход к применению мер принуждения применительно к несовершеннолетним присутствовал в УПК РСФСР 1960 г. (ст. 393), однако отсутствует в УПК РФ 2001 г.: согласно ч. 1 ст. 423 УПК РФ задержание и заключение под стражу в отношении несовершеннолетнего производятся в общем порядке, исключения содержатся только в ч. 2 ст. 108 УПК РФ [7]. Еще одной проблемой является то, что ч. 1 ст. 108 УПК РФ содержит закрытый перечень исключительных случаев, а в ч. 2 ст. 108 УПК РФ это понятие является оценочным [7].
Кроме несоответствия национального законодательства международным договорам иногда встречаются коллизии двух правовых систем. И некоторые из них существуют уже значительное время. Еще в 2012 г. профессор Г.В. Игнатенко отмечал, что согласно п. 4 ч. 2 ст. 464 УПК РФ в выдаче может быть отказано, если уголовное преследование лица возбуждается в порядке частного обвинения; в то время как в силу п. «г» ч. 1 ст. 57 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (далее – Минская конвенция) в таких случаях выдача не производится5, т.е. отсутствует усмотрение государства [5, с. 375]. С 28 июня 2023 г. вместо Минской конвенции в отношении Российской Федерации вступила в силу Кишиневская конвен- ция 2002 г.1, однако проблема сохранилась, поскольку п. «г» ч. 1 ст. 89 вышеуказанного международного договора также содержит запрет на выдачу2.
В качестве еще одной проблемы можно отметить недостаточную точность законодательства. Так, А В. Устинов отмечает, что формулировка ст. 455 УПК РФ порождает ряд вопросов, одним из которых является вопрос: в чем отличие международного договора от международного соглашения. Автор приходит к выводу, что указание международного соглашения в этом перечне является излишним, поскольку оно полностью охватывается понятием международного договора в соответствии с п. «а» ст. 2 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»3 и п. «а» ч. 1 ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.4 [13, с. 89-90]. Несмотря на то, что предложенный вариант корректировки статьи и в дальнейшем был упомянут в литературе другими учеными [11, с. 137], соответствующие изменения до сих пор не были внесены в УПК РФ.
Кроме того, международное право, как и любое право, не является единожды сложившимся комплексом норм, оно динамично, постоянно развивается и изменяется. В качестве примера приведем исследование А.Г. Волеводза, который выделил три новых направления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства: 1) международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступлений; 2) проведение совместных расследований совместными следственными группами; 3) использование видеоконференцсвязи [3, с. 312]. Автор указывал на необходимость их имплементации в УПК РФ в связи с ратификацией Россией ряда международных договоров [3, с. 311]. Однако за прошедшее время предложенные замечания были учтены лишь частично: в 2017 г. УПК РФ был дополнен главой 55.1, регулирующей признание и принудительное исполнение приговора суда иностранного государства, касающегося конфискации доходов, полученных преступным путем, находящихся на территории Российской Федерации5. По мнению О.Н. Ведерниковой [2], введение данного института связано в первую очередь с ратификацией в июле 2017 г. Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г.6
Отдельно хочется сделать акцент на влиянии международных договоров на Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144 «Об оперативно-розыскной деятельности». В ст. 4 данного закона, регулирующей правовую основу оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), нет указаний на общепризнанные принципы и нормы международного права и на международные договоры Российской Федерации (в связи с этим некоторые ученые предлагают внести соответствующие дополнения). Однако в науке при разъяснении и детализации правовой основы ОРД большинство ученых неизменно после Конституции РФ пишут про международные договоры (в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), к которым относятся: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 1988 г., Конвенция ООН про- тив организованной преступности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г. и другие [8, с. 50-51; 12, с. 116-118]. Правильность такого подхода иллюстрируют несколько примеров. Если обратиться к терминологии, то можно заметить, что используемое в ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» понятие «тайна корреспонденции» не содержится ни в Конституции РФ, ни в других федеральных законах, зато употребляется в ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [12, с. 116]. Кроме того, по сравнению с Законом РФ N 2506-1 1992 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» в действующем Феде- ральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» расширился перечень оперативно-розыскных мероприятий (например, появилась контролируемая поставка, которая регулировалась п. g ст. 1, 11 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 1988 г.) [12, с. 116-117].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что влияние международных договоров на уголовно-процессуальное законодательство не прекратилось. Однако следование международным стандартам, безусловно, должно осуществляться с учетом ценностей национальных интересов и традиций народов нашей страны.
Список литературы Влияние международных договоров на совершенствование уголовно-процессуального законодательства
- Авхадеев, В.Р. Практика международных судебных органов в сфере защиты прав человека и ее влияние на законодательство Российской Федерации / В.Р. Авхадеев // Адвокат. – 2016. – N 3. – С. 13-24.
- Ведерникова, О.Н. Право международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве / О.Н. Ведерникова // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2020. – N 4. – С. 3-6.
- Волеводз, А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ международно-правовых норм о новых направлениях международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства / А.Г. Волеводз // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014. – N 4. – С. 311-327.
- Зайцев, О.А. Реализация международных принципов и стандартов защиты детей-жертв и свидетелей преступлений в уголовно-процессуальном законодательстве России / О.А. Зайцев, А.Ю. Епихин, Е.П. Гришина // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного право-ведения. – 2020. – N 6. – С. 20-33.
- Игнатенко, Г.В. Международное и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и взаимодействия: сборник научных публикаций за сорок лет (1972-2011 годы) / Г.В. Игнатенко. – М.: Норма, Инфра-М, 2012. – 415 с.
- Качалова, О.В. Уголовно-процессуальный кодекс России: двадцать лет спустя (2001-2021) / О.В. Качалова, В.И. Качалов // Правосудие. – 2021. – N 3. – С. 167-188.
- Лавдаренко, Л.И. Задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего / Л.И. Лавдаренко // Российский следователь. – 2015. – N 6. – С. 23-27.
- Ларин, К.Б. Правовое регулирование в сфере оперативно-розыскной деятельности / К.Б. Ларин, С. Владислав // Деятельность оперативных подразделений: теория и практика: материалы всероссийской научно-практической конференции (29 ноября 2019 г.). – СПб.: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел РФ, 2021. – С. 49-53.
- Лущаева, М.Д. Влияние решений ЕСПЧ на изменения уголовно-процессуального законодательства РФ / М.Д. Лущаева, Т.В. Солонкина // Енисейские правовые чтения: сборник научных статей студентов, аспирантов и молодых ученых, приуроченный к 65-летию Юридического института Сибирского Федерального университета / отв. ред. Г.Л. Москалев, Р.Н. Гордеев. – Красноярск: Общественный комитет по защите прав человека, 2020. – С. 646-650.
- Муравьев, К.В. Меры процессуального принуждения, состоящие в изоляции несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого: реализация международных стандартов в отечественном законодательстве / К.В. Муравьев // Уголовная юстиция. – 2020. – N 15. – С. 54-58.
- Рамазан, М.М. Проблемные аспекты международного сотрудничества в российском уголовно-процессуальном праве / М.М. Рамазан // Закон и право. – 2018. – N 7. – С. 137-139.
- Смагоринский, Б.П. Оперативно-разыскная деятельность в международном праве / Б.П. Смагоринский, К.А. Ефремов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. – N 3. – С. 113-119.
- Устинов, А.В. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства при международном сотрудничестве по уголовным дедам / А.В. Устинов // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2010. – N 1. – С. 89-98.