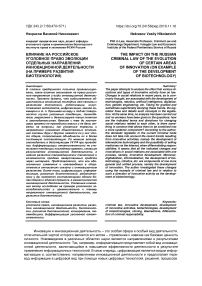Влияние на российское уголовное право эволюции отдельных направлений инновационной деятельности (на примере развития биотехнологий)
Автор: Некрасов Василий Николаевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка проанализировать, какое влияние оказывают на право различные направления и виды инновационной деятельности. Принято думать, что видоизменения общественных отношений последних лет связаны с развитием технологий, роботизации, искусственного интеллекта, цифровизации, генной инженерии и т. п. Принимая на веру и подчас поверхностно изучив указанные тенденции, законодатель закрепляет и детализирует такие понятия в законодательстве. Вместе с тем до настоящего времени не проводился анализ и не даны ответы на вопросы, как указанные термины и направления изменения общественных отношений связаны друг с другом, имеется ли у них что-то общее, позволяющее объединить их в более системную составляющую. По мнению автора, законодатель в действующем УК РФ при проведении дифференциации ответственности не учитывает тенденции последнего времени, ставшие результатом инновационной деятельности, а именно развитие телемедицинских технологий и возможности продажи лекарственных средств через интернет. Представляется, что все обозначенные изменения и нововведения в общественных отношениях связаны с инновационным развитием. Более того, цифровизация, информатизация, развитие биотехнологий, робототехники и др. являются составляющими одного более общего и единого процесса, а именно развития инновационной деятельности. Указанные изменения автор исследовал на примере уголовного законодательства и применительно к такому направлению инновационной деятельности, как развитие биотехнологий.
Уголовное право, инновационное развитие, развитие инновационной деятельности, биотехнологии, развитие биотехнологий, клонирование, телемедицина, дифференциация уголовной ответственности
Короткий адрес: https://sciup.org/149132445
IDR: 149132445 | УДК: 343.2/.7:60(470+571) | DOI: 10.24158/pep.2019.11.16
Текст научной статьи Влияние на российское уголовное право эволюции отдельных направлений инновационной деятельности (на примере развития биотехнологий)
Инновации и инновационная деятельность – это особая сфера и особый вид деятельности, отличительной чертой которого является его мотив – стремление к новизне как базовая ценность личности. Нововведения в различных областях науки являются направлениями и результатами инновационной деятельности. Так, например, информатизация представляет собой вид инновационной деятельности, заключающийся в повышении эффективности деятельности в результате применения информационных технологий. В свою очередь, цифровизация является видом информатизации и, соответственно, направлением инновационной деятельности и предполагает перевод информации в цифровой вид при помощи новых цифровых технологий, решений, процессов.
Общим признаком всех перечисленных понятий является то, что в результате их использования повышается эффективность деятельности в применяемой области. По мнению автора, с учетом выявленных особенностей анализируемых понятий следует закреплять их в тексте закона, в том числе для обеспечения уголовно-правовой охраны результатов указанных видов деятельности [1].
Одним из направлений инновационной деятельности, наряду с цифровизацией и информатизацией, является развитие биотехнологий. Согласно Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г., «биотехнология (технология живых систем) -это 1) дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии; 2) производственное использование биологических структур для получения пищевых и промышленных продуктов и для осуществления целевых превращений. Биологические структуры в данном случае - это микроорганизмы, растительные и животные клетки, клеточные компоненты: мембраны клеток, рибосомы, митохондрии, хлоропласты, а также биологические макромолекулы…» [2, с. 60–61]. Биотехнологии, являясь одним из ключевых направлений инновационной деятельности, способствуют быстрым преобразованиям в продовольственной, сельскохозяйственной, энергетической и экологической сферах. Но особенно большие возможности биотехнология открывает перед медициной и фармацевтикой, поскольку ее применение, с одной стороны, может привести к значимым преобразованиям медицины, с другой – грозит наступлением серьезных общественно опасных последствий вследствие злоупотребления данным видом деятельности.
Представляется, что понимание влияния биотехнологий на право должно осуществляться с учетом развития инновационной деятельности и ее характерных признаков. Так, например, в уголовном праве биотехнологическое развитие отражается сквозь призму двух взаимосвязанных процессов: развитие биотехнологий в медицине и фармакологии, появление новых видов и способов осуществления медицинской и фармацевтической деятельности. Однако готов ли ныне действующий Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ) к наступившим изменениям и отражены ли в нем обозначенные тенденции? Обратим здесь внимание на несколько аспектов.
Во-первых, примечательно, что в законодательстве закреплено только понятие медицинских биотехнологий, а не фармацевтических. Так, в соответствии с упомянутой вышей программой, «биотехнология медицинская - раздел биотехнологии, занимающийся производством биофарма-цевтических препаратов, изделий медицинского назначения, продуктов лечебного питания» [3, с. 61]. Исходя из такого определения, можно сделать вывод, что фармакология является частью медицинской биотехнологии. В то же время в последние годы усиливается тенденция выделения фармацевтического уголовного права. Более того, анализ ст. 235 УК РФ позволяет заключить, что медицинская и фармакологическая деятельность являются самостоятельными видами деятельности. Приведенный пример свидетельствует о том, что в действующем УК РФ пока не предпринимаются попытки отразить процессы, происходящие в развитии биотехнологий, а медицинский и фармацевтический виды деятельности понимаются преимущественно с традиционных позиций.
Во-вторых, как верно отмечает А.И. Рарог, в оценке общественной опасности деяния, предусмотренного ст. 235 УК РФ, «законодатель неосновательно переместил акцент с неквалифицированного характера медицинской и фармацевтической помощи на нелегальный (нелицен-зированный) характер этой помощи. Таким образом, деянию неосновательно (хотя и неявно) придается характер преступления в сфере предпринимательской деятельности, что противоречит месту данной нормы в системе Уголовного кодекса» [4, с. 734].
Действительно, оказание неквалифицированной медицинской или фармацевтической помощи может повлечь причинение вреда, опасного для жизни и здоровья человека, даже если такие услуги оказывает лицензированный специалист. И это должно учитываться законодателем отдельно от нелицензированного оказания медицинских или фармацевтических услуг. Кроме того, и в первом и во втором случае следует четко обозначить степень тяжести вреда здоровью, а не ограничиваться ныне действующей и излишне абстрактной формулировкой «вред здоровью человека», отраженной в диспозиции ст. 235 УК РФ.
В-третьих, следует рассматривать позитивно включение в УК РФ ст. 235.1 «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий», которая направлена на запрет производства лекарственных средств и медицинских изделий без соответствующей лицензии и сконструирована по типу формального состава. Вместе с тем в анализируемой норме ничего не сказано об изготовлении и производстве результатов медицинской биотехнологии, которые могут повлечь причинение вреда здоровью человека. Представляется, что в целях углубления дифференциации ответственности в рамках ст. 235 УК РФ изготовление новых потенциально опасных фармацевтических препаратов, изделий медицинского назначения, продуктов лечебного пита- ния, в результате биотехнологических исследований повлекшее причинение тяжкого и особо тяжкого вреда здоровью ввиду повышенной опасности, следует криминализировать в рамках квалифицированного состава ст. 235.1 УК РФ.
В-четвертых, законодатель в действующем УК РФ никак не учитывает при проведении дифференциации ответственности тенденции последнего времени, ставшие результатом инновационной деятельности, а именно развитие телемедицинских технологий и возможности продажи лекарственных средств через интернет. Если первые уже стали реальностью, то вторые, вероятнее всего, также будут легализованы. В связи с этим законодателю следует учитывать при дифференциации уголовной ответственности в рамках ст. 235 УК РФ повышенную степень общественной опасности преступлений, связанных с незаконной дистанционной медицинской и фармацевтической деятельностью, в результате чего по неосторожности причиняется вред здоровью человека или наступает смерть. Для этого следует, используя квалифицированный состав преступления в рамках ст. 235 УК РФ, предусмотреть ужесточение наказания за оказание незаконной дистанционной медицинской и фармацевтической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в результате чего по неосторожности причиняется вред здоровью человека или наступает смерть.
В-пятых, в связи с развитием биотехнологий и генной инженерии остроактуальным становится вопрос клонирования. Перспектива клонирования человека вызывает серьезные опасения и протесты среди ученых и представителей широкой общественности. Речь идет не только о сложных биоэтических и правовых проблемах, но и о возможных непредсказуемых последствиях для дальнейшего развития человеческого вида.
По мнению автора, клонирование может привести к определенным положительным результатам, например помощь одному конкретному человеку. Кроме того, применительно к молекулярному клонированию таким позитивным результатом может стать изобретение нового лекарства или вакцины. Однако такие молекулярные эксперименты должны проводиться в определенном порядке и под контролем. В свою очередь, репродуктивное и терапевтическое клонирование представляет собой повышенную опасность и угрозу для человечества, особенно в плане его воспроизводства. В настоящее время в РФ введен мораторий на клонирование человека (Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека»). Временный запрет вводится до дня вступления в силу федерального закона, регламентирующего порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования человека.
Принятие указанного документа породило противоречивую ситуацию. Так, действует запрет на клонирование человека, введенный указанным федеральным законом, однако никакой ответственности за данное деяние не предусмотрено. В связи с этим правоприменитель находится в сложной ситуации и не может принять справедливое решение по анализируемым фактам. По нашему мнению, ввиду повышенной общественной опасности клонирования человека следует ввести уголовную ответственность за данное деяние. Более того, криминализация клонирования человека должна вестись в зависимости от его вида. Как отмечалось ранее, молекулярное клонирование менее опасно и может проводиться, однако только в определенных случаях и по строго установленным правилам, которые следует разработать и закрепить в отдельном нормативно-правовом акте.
Относительно репродуктивного и терапевтического клонирования следует исходить из презумпции его общественной опасности. Исходя из этого, в УК РФ должна быть введена уголовная ответственность за отмеченные виды клонирования и это преступление отнесено к тяжким преступлениям. Квалифицированным составом в рамках предлагаемой статьи должны выступать такие обстоятельства, как: а) в целях использования органов, тканей или клеток клонированного существа; б) из корыстных побуждений; в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; г) лицом с использованием своего служебного положения. Кроме того, целесообразно включить в УК РФ статью, предусматривающую запрет под угрозой уголовного наказания и отнесения его к преступлениям средней тяжести деяния, заключающегося во ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с ее территории клонированных эмбрионов человека.
Приведенные примеры влияния на уголовное право отдельных направлений инновационной деятельности показывают, насколько хаотично и однообразно ведутся систематизация и осмысление вызовов, с которыми сталкивается законодатель. В связи с этим вносимые в УК РФ изменения в связи с появлением новых видов и характеристик общественных отношений должны реализовываться прежде всего с учетом соблюдения общих процессов и признаков, характерных для инновационной деятельности. Здесь становится важным не столько выделение новых подотраслей уголовного права, но систематизация преступлений в области инновационной деятельности и их точное расположение в уголовном законе.
Ссылки:
Список литературы Влияние на российское уголовное право эволюции отдельных направлений инновационной деятельности (на примере развития биотехнологий)
- Некрасов В.Н. Инновация, информатизация, цифровизация: соотношение и особенности правовой регламентации // Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8, № 11А. С. 137-143
- Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. [Электронный ресурс]: утв. Правительством РФ 24 апр. 2012 г. № 1853п-П8. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс"
- Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. [Электронный ресурс]: утв. Правительством РФ 24 апр. 2012 г. № 1853п-П8. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". С. 61.
- Рарог А.И. Становление фармацевтического уголовного права в России // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 4. С. 731-740. DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).731-740