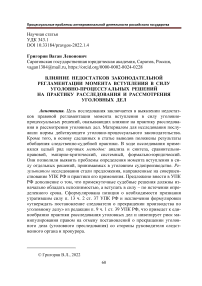Влияние недостатков законодательной регламентации момента вступления в силу уголовно-процессуальных решений на практику расследования и рассмотрения уголовных дел
Автор: Григорян Ваган Левонович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Процессуальные проблемы антикриминальной деятельности российского государства
Статья в выпуске: 1 (67), 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования заключается в выявлении недостатков правовой регламентации момента вступления в силу уголовно-процессуальных решений, оказывающих влияние на практику расследования и рассмотрения уголовных дел. Материалом для исследования послужили нормы действующего уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, в основу сделанных в статье выводов положены результаты обобщения следственно-судебной практики. В ходе исследования применялся целый ряд научных методов: анализа и синтеза, сравнительно-правовой, эмпирио-критический, системный, формально-юридический. Они позволили выявить проблемы определения момента вступления в силу отдельных решений, принимаемых в уголовном судопроизводстве. Результатом исследования стали предложения, направленные на совершенствование УПК РФ и практики его применения. Предложено внести в УПК РФ дополнение о том, что промежуточные судебные решения должны изначально обладать исполнимостью, а вступать в силу - по истечении определенного срока. Сформулирована позиция о необходимости признания утратившим силу п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и исключения формулировки «утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу» из редакции п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, что приведет к единообразию практики расследования уголовных дел и нивелирует риск манипулирования правом на отмену постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) со стороны руководителя следственного органа и прокурора.
Уголовно-процессуальные решения, законная сила, апелляционное обжалование, промежуточные судебные решения, исполнимость решений, приговор, постановление, прекращение уголовного дела
Короткий адрес: https://sciup.org/142234117
IDR: 142234117 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Влияние недостатков законодательной регламентации момента вступления в силу уголовно-процессуальных решений на практику расследования и рассмотрения уголовных дел
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия, ,
Saratov, Russia, ,
Введение. Одним из имманентно присущих уголовно-процессуальной форме элементов являются решения, принимаемые в уголовном судопроизводстве. Доктрина уголовного процесса наиболее пристальное внимание уделяет понятию и сущности (правовой природе) таких решений. При этом теоретики критикуют закрепленное в п. 33 ст. 5 УПК РФ общее понятие процессуального решения как ввиду его некорректности, поскольку оно определяется через само решение [1, с. 268], так и в силу насыщения его исключительно внешними процедурными признаками: принятие решения властными субъектами уголовно-процессуальных отношений в установленном законом порядке [2, с. 101]. В научной среде интерпретация уголовно-процессуальных решений неизменно сопровождалась включением в их содержание властного волеизъявления, что вовсе не свидетельствовало и не свидетельствует об идентичности встречающихся определений.
Чаще всего в работах отечественных процессуалистов решение толковалось как содержащий властное волеизъявление акт применения норм права, выносимый органом, осуществляющим уголовное судопроизводство, в пределах его компетенции в форме постановления, заключения, поручения, представления по вопросам, возникающим в ходе производства по уголовному делу [3, с. 6; 4, с. 42]. Некоторые ученые понимали под решением отвечающий требованиям законности и обоснованности правовой документ, в котором формулируется вывод об установлении фактических обстоятельств, содержатся ответы на правовые вопросы, выражается властное волеизъявление о действиях, проистекающих из установленных обстоятельств и предписаний закона [5, с. 12; 6, с. 43]. По мнению отдельных авторов, решения в уголовном судопроизводстве отождествляются с необходимым элементом процессуальной деятельности, сущность которого заключается «в выборе в пределах своей компетенции из определенных за- коном альтернативных целей и средств тех, которые вытекают из установленных на момент принятия решения фактических данных, выражают властное веление, направлены на осуществление задач производства по делу и, как правило, облечены в форму индивидуального правоприменительного акта» [7, с. 13].
Характеристика уголовно-процессуальных решений была бы неполной без упоминания их понятия, данного П.А. Лупинской в ее фундаментальном труде «Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика»: это «правовые акты, выраженные в установленной законом процессуальной форме, в которых государственный орган или должностное лицо в пределах своих полномочий в определенном законом порядке дает ответы на возникшие по делу правовые вопросы, основанные на установленных фактических обстоятельствах дела и предписаниях закона, и содержащие властное волеизъявление о действиях, направленных на достижение назначения уголовного судопроизводства» [8, с. 26].
Систематизация приведенных и других точек зрения ученых позволяет раскрыть сущность решений в уголовном судопроизводстве посредством выявления их традиционных черт: выносятся лишь государственными органами и должностными лицами, ведущими уголовное судопроизводство, в пределах своей компетенции; носят государственно-властный характер; порождают, изменяют или прекращают уголовно-процессуальные отношения; подтверждают наличие или отсутствие материально-правового конфликта; принимаются в установленном законом порядке и выражаются в соответствующей процессуальной форме; обладают свойствами законности, обоснованности, мотивированности и справедливости [1, с. 272; 9, с. 101; 10, с. 71–76]. Из обозначенных черт уголовно-процессуальных решений лишь положение об их свойствах требует дополнительной аргументации и некоторых пояснений.
Если отталкиваться от действующей редакции ч. 4 ст. 7 УПК РФ, то в ней отсутствует указание на справедливость определений суда, постановлений судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя. О справедливости как свойстве говорится только применительно к приговору (ч. 1 ст. 297 УПК РФ), так как законодатель, руководствуясь узким пониманием справедливости, сводит ее к справедливости назначенного наказания.
Между тем справедливость в широком смысле базируется на законности и обоснованности решений и означает правильное разрешение конфликта как по существу, так и по форме, в связи с чем она должна быть свойственна уголовно-процессуальным решениям в целом. Наряду с изложенным важно заметить, что в ч. 4 ст. 7 УПК РФ при перечислении реше- ний нет ссылки на приговор, а ч. 1 ст. 297 УПК РФ прямо не закрепляет мотивированность как свойство приговора. Такие законодательные пробелы чреваты формированием ошибочной позиции, что для приговора мотивированность не характерна, несмотря на содержание п. 4 ч. 1 ст. 305, п. 2 и 4 ст. 307 УПК РФ и п. 15, 18, 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»1, из которых следует обратное. Приходится использовать небезупречные в теоретическом и правовом отношении логические приемы и конструкции для доказывания того, что законность, обоснованность, мотивированность и справедливость – свойства всех без исключения решений в уголовном процессе.
Данные свойства при раскрытии приговора как акта правосудия нередко именуются требованиями, предъявляемыми к нему, иногда обозначаются прилагательным «внутренние», чтобы провести разграничение с внешними свойствами, присущими приговору. Ю.М. Грошевой по этому поводу писал: «следует различать внутренние и внешние свойства приговора, которые в диалектической взаимосвязи выражают качественную определенность этого процессуального акта в системе процессуальных решений. Причем внутренние свойства приговора обусловливают его внешние свойства. К внутренним свойствам правомерно отнести законность и обоснованность приговора; к внешним – его исключительность, обязательность, законную силу» [11, с. 109].
В.Н. Бибило и Е.А. Матвиенко внешними свойствами приговора считали обязательность, исключительность, неизменность и преюдициальность [12, с. 33]. Аналогичное суждение о внешних свойствах приговора было высказано и Ю.Ю. Чуриловым [13, с. 14].
Не отрицая принадлежности обязательности, исключительности, неизменности и преюдициальности к внешним свойствам именно приговора, уместно констатировать, что они возникают автоматически – после вступления итогового акта правосудия в законную силу. Однако законная сила, будучи условием реализации обязательности, исключительности, неизменности и преюдициальности приговора, его самостоятельным свойством не является, поскольку близкая к ней по содержанию категория «юридическая сила» применима и к промежуточным судебным решениям, и к решениям властных субъектов обвинения в досудебном производстве2. Вступление в силу любых уголовно-процессуальных решений в каждом отдельном случае связывается с определенным моментом. Конкретизация этого момента чрезвычайно значима для формирования единообразной практики расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел. Чтобы не быть голословным, аргументируем приведенную точку зрения.
Обсуждение. Исследуя проблему вступления в законную силу уголовно-процессуальных решений, нельзя не отметить ее особую актуальность в свете решений, вынесенных судом. При этом в большинстве работ по обозначенной тематике акцент делается на промежуточных судебных решениях [14; 15; 16]. Что касается итоговых решений суда под углом зрения приобретения ими юридической силы, то указанный момент конкретизируется законодателем и совпадает с истечением срока их апелляционного обжалования либо с днем принятия судом второй инстанции апелляционного определения. В период, когда самой распространенной формой пересмотра не вступивших в силу судебных решений выступало кассационное производство, схожая правовая позиция была сформулирована Конституционным Судом РФ в Определении от 18 июля 2006 г. № 286-О: «приговоры и иные имеющие итоговый характер решения вступают в силу и обращаются к исполнению по истечении срока их обжалования или, в случае их обжалования, – в день вынесения кассационного определения»1. Примечательно, но в указанном Определении сказано лишь о немедленном обращении промежуточных судебных решений к исполнению, тогда как о моменте вступления в законную силу таких решений Конституционный Суд РФ то ли осознанно, то ли непреднамеренно умолчал.
До сих пор правовое регулирование общественных отношений, связанных со вступлением в силу промежуточных судебных решений, отсутствует и в УПК РФ, что побуждает многих исследователей дискутировать по этому поводу. Так, А.С. Червоткин, выделяя основные свойства и отличительные черты промежуточных решений суда, настаивает на том, что они немедленно вступают в силу и обращаются к исполнению [15, с. 15]. Аналогичной точки зрения придерживается А.В. Смирнов [17].
Рассуждая в научной статье о законной силе постановления судьи о разрешении производства следственного действия, В.Ю. Стельмах утверждает, что решения, выносимые судом на этапе предварительного расследования, вступают в силу по истечении определенного срока тогда, когда
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Каримова Владислава Филлиратовича на нарушение его конституционных прав статьями
Процессуальные проблемы антикриминальной деятельности российского государства это прямо оговорено в УПК РФ; во всех остальных случаях постановление судьи приобретает законную силу с момента его вынесения немедленно [14, с. 122].
Анализ приведенных мнений вскрывает в них общий существенный недостаток, на который обращают внимание А.Д. Прошляков и М.В. Мерзлякова. Они справедливо указывают, что немедленное вступление в силу промежуточных судебных решений блокирует возможность их апелляционного обжалования, ввиду чего свобода обжалования явно ущемляется и становится иллюзорной. В связи с этим авторы небезосновательно предлагают различать два момента: вступление в силу судебного решения и приобретение им свойства исполнимости [16, с. 58]. Думается, что именно при таком подходе, когда промежуточные решения суда изначально обладают исполнимостью и лишь по истечении определенного срока вступают в силу, соблюдается баланс между достижением задач, на которые направлена реализация промежуточного судебного решения, и гарантированным Конституцией РФ правом на судебную защиту. Иначе, если вступление в силу промежуточных решений суда и наделение их свойством исполнимости будут происходить одномоментно, впору констатировать либо необратимые последствия ввиду промедления с исполнением данных решений, либо нарушение права на судебную защиту, выражающееся в игнорировании свободы апелляционного обжалования заинтересованными лицами. Кстати, немедленная исполнимость характерна для собственно промежуточных решений, когда они содержатся в итоговом акте правосудия, не вступившем в законную силу. Например, решение об избрании в отношении подсудимого, не содержащегося под стражей, меры пресечения в виде заключения под стражу исполняется сразу после провозглашения обвинительного приговора, где приведено обоснование необходимости его изоляции.
Уголовно-процессуальные решения властных субъектов обвинения в досудебном производстве, естественно, не могут и не должны обжаловаться в апелляционном порядке (как, собственно, в кассационном и надзорном), что снимает остроту вопроса об их юридической силе. По верному замечанию П.А. Лупинской, эти решения вступают в силу с момента принятия [18, с. 43]. Однако принятие решений должностными лицами органов уголовного преследования обусловливается различными юридическими фактами. В частности, постановление о привлечении в качестве обвиняемого считается принятым после его подписания следователем, на которого возлагаются обязанности по вручению копии указанного решения обвиняемому, защитнику и направлению ее прокурору (ч. 8 и 9 ст. 172 УПК РФ). Когда следователь или дознаватель возбуждает ходатайство об избрании меры пресечения ввиду заключения под стражу, то соответствующее постановление направляется им в суд лишь после согласования с руководителем следственного органа или прокурором (ч. 3 ст. 108 УПК РФ), а значит, выраженное в письменной форме согласие ведомственных начальников придает такому решению юридическую силу. О вынесении и, как следствие, вступлении в силу обвинительного заключения (акта, постановления) свидетельствует резолюция прокурора «Утверждаю», располагающаяся над наименованием документа. Неслучайно по окончании расследования именно прокурор вручает копии обвинительного заключения, акта, постановления заинтересованным лицам (ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 226 и ч. 3 ст. 226.8 УПК РФ). Изложенное приводит нас к убеждению, что принятие и вступление в законную силу решений властных участников процесса со стороны обвинения связываются с тремя обстоятельствами: их подписанием должностным лицом, выраженным в письменной форме согласием ведомственного руководителя и резолюцией об утверждении итоговых актов предварительного расследования, учиненной надзирающим прокурором. Чрезвычайно важно здесь осознавать правило: юридическая сила отдельно взятого решения органа уголовного преследования коррелирует с удостоверением только одного из перечисленных фактов.
К сожалению, данное правило не воспринимается законодателем при регламентации порядка вынесения решений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) на стадии предварительного расследования. Традиционно постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования принимается следователем, дознавателем самостоятельно, что подтверждается системным анализом ч. 1 ст. 213 и ч. 1 ст. 223 УПК РФ. Вместе с тем решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), к примеру, в связи с примирением сторон либо деятельным раскаянием нуждается в согласовании с руководителем следственного органа или прокурором соответственно (ст. 25, 28 УПК РФ). Если в первом случае постановление обретает законную силу после его подписания лицом, осуществляющим расследование, то во втором – с момента фиксации на нем письменного согласия руководителя следственного органа (прокурора), и это вполне согласуется с ранее озвученным правилом. Но ситуация в корне меняется при ознакомлении с полномочиями прокурора и руководителя следственного органа, среди которых обнаруживается утверждение ими постановлений своих ведомственных подчиненных о прекращении производства по уголовному делу (п. 13 ч. 2 ст. 37, п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).
Логично считать, что при заявленной нормативно-правовой конструкции подобное утверждение и будет служить тем юридическим фактом, с наступлением которого можно судить о законной силе постановления. Тогда закономерно возникает как минимум два вопроса: в чем заключается смысл наделения следователя, дознавателя правом самостоятельного вы-
Процессуальные проблемы антикриминальной деятельности российского государства несения постановлений о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и каково значение согласия руководителя следственного органа и прокурора на принятие указанных решений? Поставленные вопросы относятся к категории риторических. Очевидно, что необходимость утверждения ведомственными руководителями постановлений о прекращении производства по делу придает праву следователя (дознавателя) на самостоятельное принятие анализируемых решений декларативный характер и нивелирует ценность согласия руководителя следственного органа и прокурора, которое по своей правовой природе очень схоже с их же утверждением.
Обобщение практики расследования уголовных дел в Тамбовской области и Ставропольском крае показало, что постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) не утверждаются руководителем следственного органа и прокурором. Так, в постановлении о прекращении уголовного дела в отношении Р. за отсутствием состава преступления, вынесенном дознавателем ОД МО МВД России «Знаменский», нет отметки прокурора о его утверждении1. При ознакомлении с уголовным делом № 12102070011010004 выявлено, что уголовное преследование К. прекращено старшим следователем СО по городу Пятигорск СУ СК РФ по Ставропольскому краю на основании примечания к ст. 145.1 УК РФ и в связи с деятельным раскаянием, а само постановление лишь согласовано с руководителем следственного органа путем учинения им надписи «Согла-сен»2. Вместе с тем не исключается, что в других субъектах Российской Федерации при прекращении уголовного дела или уголовного преследования руководитель следственного органа и прокурор используют утверждение с целью придания законной силы решениям, по крайней мере, соответствующие предпосылки для этого имеются. Как видно, ущербность процессуальной формы вынесения решений о прекращении уголовного дела (преследования) порождает неопределенность в вопросе о моменте вступления в силу постановлений следователя, дознавателя и ставит под угрозу обеспечение единообразия практики расследования уголовных дел.
Чтобы прояснить возникшую ситуацию и не допустить в будущем использования разностороннего подхода правоприменителей к принятию постановлений о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, требуется внести в уголовно-процессуальный закон изменения, устраняющие возможность двоякого толкования. Руководствуясь изложенным, целесообразно признать утратившим силу п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и исключить формулировку «утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу» из действующей редакции п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ. Изъятие у руководителя следственного органа и прокурора полномочий по утверждению решений о прекращении производства по уголовному делу никак не ограничит ведомственный контроль за деятельностью следователя и дознавателя, поскольку каждый из них в отношении своих подчиненных обладает правом отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и возобновления производства по уголовному делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).
Наличие у руководителя следственного органа и прокурора возможностей по утверждению постановлений о прекращении производства по делу, иллюстрируя ущербность процессуальной формы вынесения названных решений, не только будет способствовать отклонению от единообразия практики расследования уголовных дел, но и позволит им манипулировать правом отмены данных постановлений.
Федеральным законом от 12 ноября 2018 г. № 411-ФЗ1 гл. 29 УПК РФ дополнена статьей 214.1, в соответствии с которой отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его принятия допускается на основании судебного решения. Между тем ввиду неопределенности момента вступления в силу решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) не совсем ясно, с даты какого события следует рассчитывать годичный срок – с даты подписания постановления следователем, дознавателем (получения согласия ведомственного начальника) или с даты учинения на нем резолюции руководителя следственного органа, прокурора об утверждении этого акта. Принимая во внимание, что заявленные события могут быть растянуты во времени, а сама резолюция «Утверждаю» вместе с датой проставлена от руки, имеются опасения проявления злоупотреблений правом на утверждение. Другими словами, есть риск использования полномочий по утверждению постановлений о прекращении производства по уголовному делу с целью искусственного восстановления пропущенного срока, что, несомненно, повлечет за собой ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, прежде всего подозревае- мого, обвиняемого. В свете приведенных обстоятельств необходимость внесения в УПК РФ предложенных изменений приобретает еще большую актуальность.
Заключение. Конструктивный анализ уголовно-процессуального законодательства в части регламентации момента вступления в силу решений, принимаемых в ходе уголовного судопроизводства, способствовал формированию убеждения, что промежуточные судебные решения должны исполняться незамедлительно, а вступать в законную силу – по истечении определенного срока. Лишь такая хронологическая последовательность позволит избежать необратимых последствий, связанных с промедлением исполнения указанных решений, и не нарушить право заинтересованных лиц на судебную защиту, заключающееся в свободе апелляционного обжалования. Соответствующие дополнения требуется внести в УПК РФ.
Юридическая сила решений, выносимых органами уголовного преследования, обусловливается тремя фактами: их подписанием должностным лицом; выраженным в письменной форме согласием ведомственного руководителя; резолюцией об утверждении итоговых актов предварительного расследования, учиненной надзирающим прокурором. Неопределенность в этом смысле характерна для постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). С целью ее преодоления предлагается признать утратившим силу п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и исключить формулировку «утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу» из действующей редакции п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ. Реализация предложенных изменений не только приведет к единообразию практики расследования уголовных дел, но и нивелирует риск манипулирования правом на отмену постановлений о прекращении уголовного дела или уголовного преследования со стороны руководителя следственного органа и прокурора.
Список литературы Влияние недостатков законодательной регламентации момента вступления в силу уголовно-процессуальных решений на практику расследования и рассмотрения уголовных дел
- Фомичев П.В. О сущности уголовно-процессуальных решений / П.В. Фомичев // Судебные решения в уголовном судопроизводстве и их юридическая сила : сборник материалов Международной научно-практической конференции / отв. ред. Л.В. Никитина. - Саратов : Кубик, 2015. -С.267-274.
- Манова Н.С. О сущности процессуальных решений в уголовном судопроизводстве / Н.С. Манова, Е.В. Пантелеева // Право: история и современность. - 2020. - № 2 (11). - С. 100-111.
- Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе / Ю.М. Грошевой. - Харьков : Вища школа, 1979. - 143 с.
- Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования : учебное пособие / З.Д. Еникеев. - Уфа : Изд-во БашГУ, 2001. - 116 с.
- Манаев Ю.В. Законность и обоснованность процессуальных решений следователя в советском уголовном судопроизводстве : учебное пособие / Ю.В. Манаев. - Волгоград, 1977. - 87 с.
- Савицкий В.М. Уголовный процесс : словарь-справочник / В.М. Савицкий, А.М. Ларин ; под общ. ред. В.М. Савицкого. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 1999. - 270 с.
- Ломидзе А.Б. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью принимаемых следователем процессуальных решений : методическое пособие / А.Б. Ломидзе. - Москва : Юрлитинформ, 2000. - 104 с.
- Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика / П.А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Норма: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.
- Зотов Д.В. Традиции и новации в определении гносеологического содержания уголовно-процессуальной деятельности / Д.В. Зотов // Судебные решения в уголовном судопроизводстве и их юридическая сила : сборник материалов Международной научно-практической конференции / отв. ред. Л.В. Никитина. - Саратов : Кубик, 2015. - С. 92-103.
- Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и практика : монография / В.П. Уманская ; под ред. Б.В. Россинско-го. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 335 с.
- Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие / Ю.М. Грошевой. - Харьков : Вища школа, 1986. - 183 с.
- Бибило В.Н. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора / В.Н. Бибило, Е.А. Матвиенко. - Минск : Изд-во БГУ, 1982. - 206 с.
- Чурилов Ю.Ю. Оправдательный приговор в российском судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю.Ю. Чурилов. - Воронеж, 2009. - 24 с.
- Стельмах В.Ю. Срок вступления в законную силу постановления судьи о разрешении производства следственного действия / В.Ю. Стельмах // Право и безопасность. - 2013. - № 1-2 (44). - С. 121-123.
- Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра в российском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.С. Червоткин. - Москва, 2014. - 25 с.
- Прошляков А.Д. О моменте вступления в силу промежуточных судебных решений по уголовным делам / А.Д. Прошляков, М.В. Мерзля-кова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. - 2015. - Т. 15, № 3. - С. 57-60.
- Смирнов А.В. Реформа порядка пересмотра судебных решений по уголовным делам: апелляция // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-сультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc&base=CJI&n=58669#ocivaxSIP3fORF1k1.
- Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика / П.А. Лупинская. - Москва : Юристъ, 2006. - 174 с.