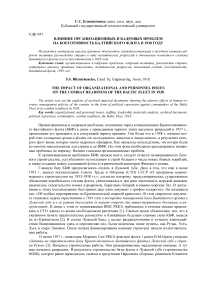Влияние организационных и кадровых проблем на боеготовность Балтийского флота в 1938 году
Автор: Близниченко С.С.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (38), 2012 года.
Бесплатный доступ
Излагаются материалы анализа архивных документов, свидетельствующих о пагубном влиянии кадровой политики руководства страны в виде политических репрессий в отношении командного состава Балтийского флота на его боеготовность в 1938 году.
Организационные и кадровые проблемы, кадровая политика, руководство страны, материалы анализа, архивные документы, политические репрессии, командный состав, боеготовность, балтийский флот, 1938 год
Короткий адрес: https://sciup.org/142142545
IDR: 142142545 | УДК: 947
Текст научной статьи Влияние организационных и кадровых проблем на боеготовность Балтийского флота в 1938 году
К организационным проблемам КБФ, прежде всего, следует отнести незавершенность базового строительства, усугубленного вступлением в строй большого числа новых боевых кораблей, а также создание новых соединений флота в ограниченной акватории Финского залива.
Главную базу КБФ предполагалось создать в Лужской губе. Дело в том, что еще в июне 1933 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны (СТО) СССР «О программе военноморского строительства на 1933-1938 гг.», согласно которому предусматривалось существенное обновление корабельного состава флота, увеличивалась в три раза численность морской авиации, намечалось строительство новых аэродромов, береговых батарей и военно-морских баз. В дополнение к этому постановлению был принят еще один документ с грифом «секретно». Он назывался так: «Об особых мероприятиях по Кронштадтской морской крепости». В этом секретном документе ставилась задача « приступить в 1934 году к постройке маневренной базы Балтийского флота в Лужской губе и в ее районе боескладов (в первую очередь для минно-торпедного боезапаса и вооружения )». В связи с этим от командования ВМС РККА требовалось в течение месяца представить в СТО доклад со всеми необходимыми расчетами [1]. Сжатые сроки объяснялись тем, что в указанном пункте предполагалось разместить в ближайшем будущем главные силы КБФ, выведя их из Кронштадта [2]. В состав Лужской базы, с целью рассредоточения и лучшего взаимодействия базировавшихся здесь в перспективе сил, были включены такие пункты, как Ручьи, Усть-Луга и озеро Липовое. После начала финансирования военные строители начали подготовительные работы.
-
15 июня 1937 г. начальник Морских Сил РККА флагман флота 1 ранга В.М.Орлов утвердил « Задание на строительство базы Краснознаменного Балтийского флота в Лужской губе у деревни Ручьи » [3]. Начались строительные работы. Они разворачивались медленными темпами. А тут еще начались репрессии. В результате строительство базы флота в Лужской губе (строительство №200), которое ранее проводилось силами и средствами Наркомата обороны, решением Комитета
обороны при Совете народных комиссаров СССР от 29 сентября 1937 г. было поручено вести Наркомату внутренних дел (НКВД).
После принятия объекта новым подрядчиком (НКВД) им было вложено в строительство 68 млн. рублей помимо затрат, произведенных Наркоматом обороны. Ориентировочная стоимость строительства Лужской базы, согласно измененному проектному заданию, составляла около 600 млн. рублей [4].
В течение всего 1938 г. продолжались строительные работы на объекте №200. По уточненным данным они должны были завершиться к 1 октября 1942 года [5]. Но строительство постоянно лихорадило из-за арестов начальников, главных инженеров и производителей работ. В частности, были обвинены во вредительстве и репрессированы командир Лужского порта дивинтендант П.В. Бойков, военные строители М.Я. Гмира, В.И. Пуговкин и другие [6]. Конечно, эти аресты самым непосредственным образом отразились на ходе строительных работ и вызвали замедление их темпов. Между тем проблемы с базированием старых и новых соединений и частей КБФ продолжали обостряться.
В 1938 г. состав Краснознаменного Балтийского флота пополнился новыми боевыми кораблями, были образованы новые соединения. Так, например, 28 января в состав соединения Охраны водного района (ОВР) вошла Охрана рейдов Лужского укрепленного сектора, а 15 апреля ОВР был выделен из состава Кронштадтского Укрепленного района (УРа) и подчинен непосредственно начальнику штаба КБФ [7]. Также 15 апреля, в дополнение к трем ранее созданным бригадам подлодок, на базе отдельного учебного дивизиона в составе КБФ была сформирована 4-я бригада подводных лодок (командир капитан 2 ранга В.Д. Виноградов) [8]. В скором времени ожидался ввод в строй действующих кораблей спущенного на воду и достроенного на плаву первого крейсера советской постройки «Киров». Велось также строительство базовых тральщиков типа «Фугас», малых охотников за подводными лодками типа МО-4, торпедных катеров типа Г-5 (ГАНТ-5), бронекатеров, катеров-тральщиков. Была перестроена в современный по тому времени минный заградитель «Марти» бывшая яхта «Штандарт» [9].
В связи с созданием новых соединений, для укомплектования их штабов и экипажей вновь вводимых в строй кораблей срочно требовались опытные кадры флотских офицеров всех специальностей. Поэтому одновременно с решением организационных проблем командованию КБФ приходилось в срочном порядке преодолевать и кадровые проблемы. Однако дело осложнялось тем, что в зимний период 1937-1938 гг. были арестованы бывший командир Бригады эсминцев (БЭМ) флагман 2 ранга Г.Г. Виноградский, командир Бригады подводных лодок (БПЛ) капитан 1 ранга А.А. Пышнов, командир Бригады торпедных катеров капитан 2 ранга Г.П. Нестевед, командир Бригады заграждения и траления капитан 1 ранга И.И. Талин и множество других флотских командиров и военачальников. Всего за период с 1 мая 1937 г. по 15 мая 1938 г. из числа командно-начальствующего состава КБФ было уволено (в том числе арестовано) 389 человек [10].
Обезглавливанию флота способствовали преступные действия начальника Особого отдела НКВД КБФ капитана госбезопасности М.М. Хомякова и его подчиненных. Сотрудникам Особого отдела изо всех сил помогал и член Военного совета КБФ дивизионный комиссар А.А. Булышкин. Этот политический работник даже гордился своим активным участием в репрессивных акциях. Вот что он говорил на заседании Военного совета РККА в конце 1937 г:
«Товарищ Народный комиссар, считаю необходимым доложить, что, несмотря на безусловно очень сложную обстановку в Краснознаменном Балтийском флоте, благодаря тому, что враги народа сумели вести работу и охватить буквально все участки, – мы сумели разделаться с врагами и привести Балтийский флот к Пленуму Военного Совета окрепшим, оздоровленным и вполне боеспособным, о чем здесь докладывал командующий флотом т. Исаков… Нужно сказать, что переломным моментом в истекшем году в боевой подготовке, на котором мы сосредоточили все внимание, это была ваша июльская директива флоту, которая обязывала нас к тому, чтобы быстрее ликвидировать последствия вредительства, провести работы по проверке личного состава и удалению враждебных элементов и поднять огневую и тактическую подготовку нашего флота… В области чистки флота и кадров, удаления враждебных и неустойчивых элементов нами изъято из флота 264 командира на сегодняшний день, из них арестовано около 100 человек, оказавшихся врагами народа, шпионами, диверсантами и террористами, которые готовили даже террористические акты. В этой обстановке мы все-таки сумели справиться с теми огромными задачами, которые были поставлены перед Балтийским флотом» [11].
Массовые аресты военнослужащих КБФ вызвали нарушение рабочего ритма боевой учебы флота. Образовался большой некомплект подготовленных флотских офицеров различного ранга для заполнения вакантных должностей. Начались происшествия при выходе в море кораблей с малоквалифицированными командирами. И только тогда командование КБФ осознало всю тяжесть сложившейся ситуации с кадрами флотских командиров и начальников.
Выражая тревогу по поводу сложившейся ситуации с кадрами, член Военного совета КБФ дивизионный комиссар А.А.Булышкин вполне откровенно заявил на Военном совете РККА в ноябре 1937 г.: «…Я прямо говорю, что не вижу тех мероприятий, которые бы в полной мере обеспечили ликвидацию этого некомплекта, по крайней мере, на ближайшие 2–3 года. А мы знаем, что у нас в перспективе огромный рост флота. Те мероприятия, которые намечаются, не могут нас устраивать. В частности, указания УВМС об организации двухгодичных курсов по подготовке младших лейтенантов не могут нас удовлетворить. Мы такими темпами подготовки младших лейтенантов просто не сумеем ликвидировать некомплект, у нас он сегодня выражается в 2300 человек, а в перспективе бурный рост флота» [12] .
В данном случае получилось так, как говорится в народной пословице: «За что боролись, на то и напоролись». Пришлось А.А. Булышкину пожинать «плоды» своего труда по «выкорчевыванию врагов народа». Ему хотя и присвоили 17 января 1938 г. очередное звание – корпусной комиссар, но это было последней радостью, так как 19 июля 1938 г. его сняли с должности [13]. Произошли и другие кадровые замены на КБФ и в центральном флотском аппарате управления в Москве, повлиявшие на боеготовность Балтийского флота.
Как ни странно, в сложившуюся сложную ситуацию с флотскими кадрами свои отрицательные штрихи внесло на первых порах и создание в конце 1937 г. вместо Управления ВМС РККА наркомата ВМФ СССР во главе с политработником высокого уровня армейским комиссаром 1 ранга П.А. Смирновым. Этот военачальник имел весьма смутные представления о флотской специфике, но проявил себя активным борцом с врагами народа в армейских и флотских рядах. С установкой на продолжение репрессивной кадровой политики он начал руководить флотом.
25 января 1938 г. только что назначенный нарком ВМФ армейский комиссар 1 ранга П.А. Смирнов в своей директиве № 246172 подвел итоги оперативной подготовки комсостава ВМФ за прошедший год и пришел к совершенно неутешительным итогам. По мнению наркома, «оперативная подготовка командного состава и штабов, как показали итоги 1937 года, стоит на низком уровне и не отвечает современным требованиям планирования и ведения операций на море» [14]. Основные недостатки в организации и проведении мероприятий по оперативной подготовке командно-начальствующего состава флота, как считал П.А. Смирнов, сводились к следующему: « 1) отсутствие единства оперативных взглядов на методы ведения операций; 2) слабые навыки в быстрой и правильной оценке обстановки; 3) неуверенность и предвзятость в принятии решений на операцию; 4) штабы не овладели методами и навыками оперативных расчетов; 5) неудовлетворительная организация использования авиации; 6) бессистемное использование кодов для связи; 7) излишняя загрузка радиосвязи; 8) неумение штабов наладить контроль за выполнением приказов командиров и правильно организовать взаимную информацию » [15] . С целью ликвидации вышеуказанных отрицательных явлений нарком ВМФ П.А.Смирнов приказал всем военным советам флотов « считать оперативную подготовку высших командиров и штабов основной задачей всей командирской подготовки на 1938 год ». В качестве частных задач Смирнов потребовал « развивать гибкость оперативного мышления, смелость в принятии решений, уверенность, волю и настойчивость при их осуществлении, а также изучить оперативные взгляды вероятных противников и сам театр военных действий » [16]. Перед проведением оперативных игр нарком ВМФ приказал сделать исторические доклады на темы, близкие к темам предстоящих игр. Для этого к общефлотской оперативной игре Краснознаменного Балтийского флота П.А. Смирнов потребовал привлечь преподавательский состав Военно-морской академии [17].
Конечно, не сам П.А. Смирнов так сформулировал такой вывод и формулировал данную директиву. Вместо него это сделал начальник Главного морского штаба (ГМШ) ВМФ флагман флота 2 ранга Л.М. Галлер. Тем не менее эта оценка состояния подготовки комсостава ВМФ в целом и КБФ в частности в полной мере соответствовала действительности на тот момент времени.
А на Краснознаменном Балтийском флоте в январе 1938 г. произошла очередная смена командования. Вместо принявшего активное участие в организации репрессий на КБФ и убывшего в Москву на повышение флагмана 2 ранга И.С. Исакова 10 января 1938 г. командующим флотом был назначен флагман 2 ранга Г.И. Левченко. Одновременно начальником штаба КБФ стал капитан 1 ранга В.Ф. Трибуц [18].
С 25 по 26 марта под руководством нового командующего флотом флагмана 2 ранга Г.И. Левченко и начштаба КБФ капитан 1 ранга В.Ф. Трибуца была проведена двухсторонняя оперативная игра с участием ЛВО и КБФ. Тема игры была заявлена таким образом: «Совместные с армией действия по овладению побережьем и шхерным районом восточной части Финского залива с одновременными операциями по срыву перевозок противника в Балтийском море» [19] .
В результате проведения игры ее руководством были сделаны следующие разочаровывающие выводы. Прежде всего, обнаружилось, что «учебные цели, поставленные на игре, в полной мере были не отработаны» [20] . Большинство командиров соединений и частей КБФ, за исключением командиров авиасоединений, «несмотря на достаточный срок, отведенный для подготовки к игре, подготовились плохо, решение задач до конца не продумали и не произвели необходимых тактических расчетов». Объяснялось это тем, что основная масса командиров «в таких играх участвовали впервые и навыка в работе не имели» [21]. Как следует из текста приведенного документа, здесь уже в полной мере сказались последствия репрессий всего 1937 г. и начала 1938 г., когда перемещения молодых командиров на более высокие должности приняли массовый характер.
Многие недостатки, указанные в отчете начальника штаба КБФ капитана 1 ранга В.Ф. Трибуца, были отмечены еще в прошлогодней игре, но значительного прогресса с того времени, видимо, так и не произошло. К примеру, вновь выяснилось, что « операция не была обеспечена разведкой – тральной, гидрографической, рельефа береговой черты, самого плацдарма для высадки, на подходах к месту высадки » [22].
Организация командования всей операцией и боевое управление была признана начальником штаба КБФ капитаном 1 ранга В.Ф. Трибуцем «нечеткой». В своем отчете он особо отметил, что «командующий эскадрой «красных» капитан 1 ранга Н.Н.Несвицкий не возглавил руководство всей операцией и не организовал взаимодействие всех частей» [23] . В действиях многих командиров было замечено несоответствие принимаемых ими решений выполняемым задачам. Боевые документы, выработанные как накануне игры, так и в ходе ее, в большинстве своем были недостаточно конкретными и страдали расплывчатыми формулировками. Задачи в боевых приказах также ставились зачастую неконкретно, отсутствовали навыки в правильной оценке сложившейся обстановки. Командирами всех уровней слабо проявлялась инициатива при выполнении поставленных задач. Само оформление документов было признано Трибуцем абсолютно неудовлетворительным [24].
Выявились многочисленные проблемы и при решении конкретных задач. Например, обнаружилось, что вопросы использования корабельной артиллерии при стрельбе по береговым целям, и в частности по батареям, проработаны крайне слабо. Целый ряд принципиальных вопросов (дистанция, корректировка огня, количество боезапаса, тип снарядов, связь с наступающими частями) требовали подробного изучения. Совершенно не отрабатывались задачи по ведению артиллерийского огня на подавление в ночных условиях [25]. Впрочем, обнаружились вещи куда более неприятные. На игре вдруг выявилось «отсутствие единых взглядов у подводников о методе преодоления противолодочных преград» [26] . Конечно, о каком «единстве взглядов» можно было говорить, если к тому времени были репрессированы командиры бригад и дивизионов ПЛ вместе со всеми начальниками штабов? Ведь вновь назначенным командирам требовалось время для «врастания» в сложившуюся обстановку.
Одним словом, эта оперативная игра не принесла ожидаемой от нее пользы, хотя и «дала большую практику флагманам в оперативной подготовке» [27]. Фактически всю оперативную подготовку комначсостава флота было нужно начинать заново с самых азов. Такой была цена репрессий.
Аналогичные результаты принесла и проводившаяся на КБФ с 14 по 15 апреля оперативная авиационная игра на тему « Разгром морских и воздушных сил лимитрофов в их базах и на их аэродромах в первые дни войны в условиях начавшейся переброски Коричневых сил в Финский залив » [28]. И это обстоятельство вполне объясняется отсутствием на этой игре репрессированных авиационных командиров и военачальников.
Вот с такими неутешительными результатами приступил КБФ к летней кампании 1938 г. Одновременно с боевой учебой соединений флота проходили испытания вновь построенных кораблей.
На Балтике продолжались ходовые испытания крейсера «Киров». Во время одного из этапов испытаний произошло чрезвычайное происшествие - выпущенная с борта крейсера торпеда (без боевой части), описав круг, врезалась в борт «Кирова». Разумеется, органы НКВД сразу же нашли виновных. Ими оказались председатель Постоянной комиссии по приемке строящихся кораблей флагман 1 ранга А.К. Векман и его заместители капитан 1 ранга Н.К. Никонов и военинженер 1 ранга Н.И. Кюн [29].
К середине лета одиночная подготовка кораблей и боевое слаживание соединений флота были в основном закончены. Предстояло проверить их итоги в очередных учениях и маневрах.
Во 2-й половине лета 1938 г. на Балтике было проведено два больших отрядных учения -БОУ-1 (22 -25 июля) и БОУ-2 (14 -15 августа). Тема БОУ-1 была обозначена следующим образом: - «Нанесение последовательных ударов по линкорам и крейсерам противника Военно-воздушными силами ЛВО, Военно-воздушными силами КБФ и 1-й, 2-й, 3-й бригадами подлодок на переходе из средней части Балтийского моря в Финский залив с последующими совместными ударами Воен -но-воздушными силами, торпедными катерами, легкими силами КБФ в восточной части Финского залива» [30]. По мнению начальника штаба флота капитана 1 ранга В.Ф. Трибуца, все учебные цели на учении были выполнены, за исключением совместных ударов ВВС и подлодок в Балтийском море. В ходе проведения БОУ-1 был отмечен ряд недостатков: 1) совместное плавание отработано только в простых условиях; 2) подлодки и торпедные катера не отработали полностью элементов выхода в атаку; 3) слабая дисциплина связи и большое количество искажений радиограмм, недостаточное использование гидроакустики на подлодках; 4) проведение бомбометания авиации исключительно на малых высотах; 5) высокая аварийность в частях ВВС КБФ. В целом БОУ-1 получило оценку командования «вполне удовлетворительно» [31] . Такая оценка никак не вяжется с тем, что была ведь не выполнена основная цель учения - совместное (силами ВВС и подлодок) нанесение ударов по противнику. Здесь просматривается элемент «очковтирательства», как говорилось в те годы, то есть сознательного искажения и приукрашивания достигнутых результатов своей деятельности.
Большое отрядное учение № 2 было посвящено теме « Ведение сложного морского боя в Финском заливе и на оборонительном рубеже в своем укрепленном районе » [32]. Подготовка к БОУ-2, как небезосновательно полагало руководство ГМШ, была проведена плохо, особенно командованием стороны «А». Доклад решения командующего стороной «А» капитана 1 ранга Н.Н. Несвицкого, сделанный начальнику штаба КБФ, был оценен как неудовлетворительный. Ни одному командиру соединения стороны «А» не была поставлена конкретная задача, все строилось на основе договоренностей [33]. Несвицкий даже не был в курсе, какими силами он наносит удар по противнику (возникла путаница с использованием 105-й авиабригады). Вся документация стороны «А» была разработана неудовлетворительно, а «задачи частям были поставлены так, что можно было понимать их в двояком и неверном смысле». В довершение всех бед оперативные документы стороны «А» были пересланы командующему стороной «Б». Естественно, что по ходу учения пришлось перерабатывать всю документацию [34].
Отдельные недостатки в ходе учения, по мнению начальника штаба, капитана 1 ранга КБФ В.Ф. Трибуца, проявились в следующем: 1) вместо дневного боя линкоров был проведен бой на рассвете; 2) не отработан ночной поиск и бомбометание силами ВВС линкоров противника; 3) не принята внезапная стрельба с линкора «Марат». Однако имелись и более серьезные претензии к боевой подготовке (БП) флота. Прежде всего, выявилась слабая тактическая подготовка Бригады линкоров, Бригады миноносцев и Бригады торпедных катеров КБФ. В то же время огневая подготовка соединений была сочтена вполне удовлетворительной. Штабы соединений недостаточно организовали учение, плохо оценивали обстановку, не подготавливали решений командирам соединений. Тылы проводили учение оторвано от действий своих сторон. В целом БОУ-2 была дана оценка «удовлетворительно» [35], что представляется явно завышенной отметкой. И опять-таки в этом явно сказывались последствия репрессий на КБФ в 1937-1938 гг.
С целью повышения качества оперативной и боевой подготовки на Краснознаменном Балтийском флоте 27 июня 1938 г. первый заместитель наркома ВМФ флагман флота 2 ранга П.И. Смирнов-Светловский приказом № 244401сс потребовал от Военного совета КБФ провести в последнюю неделю сентября на флоте маневры на тему «Оборона главной базы с одновременным действием подводных лодок на коммуникациях противника и операциями надводного флота в море на значительном удалении от своих баз» [36]. При этом заместитель наркома подчеркнул, что главное внимание на маневрах «должно быть уделено развитию у командного и начальствующего состава гибкости оперативного мышления, смелости, решительности и спокойной уверенности, основанной на хорошем знании театра, вероятных противников, тактических приемов и техники». Следовало также проверить реальность сроков оперативной и мобилизационной готовности КБФ и соответствие оперативных норм действительным потребностям [37]. Силы сторон были определены таким образом: «красная» сторона – КБФ в составе на 1938 год; «синяя» сторона – флоты государств-«лимитрофов», германская эскадра в составе двух линкоров типа «Ш», трех крейсеров типа «К», флотилии миноносцев и флотилии подводных лодок. Руководителем маневров был назначен заместитель наркома ВМФ флагман 1 ранга И.С. Исаков [38].
-
19 августа начальник ГМШ флагман флота 2 ранга Л.М. Галлер в своей директиве № 244613 потребовал от командующего КБФ внести в распорядок маневров решение следующих задач: 1) фактическое траление поставленных мин; 2) полная приемка мин одним – двумя кораблями; 3) сбрасывание боевых глубинных бомб; 4) постановка сетей; 5) ночные постановки мин по счислению; 6) ночное траление. Командующий Балтфлотом флагман 2 ранга Г.И. Левченко распорядился включить все вышеперечисленные задачи в план маневров [39].
-
2 сентября командующий КБФ флагман 2 ранга Г.И. Левченко отдал приказ №1оп/330сс, где отметил, что « Военный совет КБФ обращает особое внимание командиров соединений, кораблей и частей на необходимость иметь полную боевую готовность боевых средств и быть готовым перейти от условных к фактическим действиям » [40]. Штаб КБФ приступил к работе по составлению плана предстоящих маневров, но она была внезапно прервана. 15 сентября первый заместитель наркома ВМФ флагман флота 2 ранга П.И.Смирнов-Светловский в своем приказе № 244690сс объявил Военному совету КБФ, что « ввиду недостаточной подготовки флота в целом к проведению учебно-боевых операций в сложных условиях » маневры 1938 г. необходимо отменить. Вместо этого он требует провести в период с 27 сентября по 1 октября большое отрядное учение, « ориентированное на тему маневров » [41].
Причиной столь внезапной отмены маневров на Балтике стали результаты проверки боевой подготовки соединений, кораблей и частей КБФ, проведенной начальником Военноморской инспекции ВМФ флагманом 2 ранга К.О.Осиповым в период с 4 по 8 сентября 1938 г. В своем докладе, направленном первому заместителю наркома ВМФ флагману флота 2 ранга П.И.Смирнову-Светловскому, флагман 2 ранга К.О.Осипов констатировал, что «в целом КБФ недостаточно подготовлен к проведению предстоящих маневров» [42] . Далее флагман 2 ранга К.О. Осипов перечислил наиболее крупные, на его взгляд, недостатки в боевой подготовке, заключавшиеся в следующем: «Почти на всех кораблях вахтенные командиры молодые, не отработаны, к несению самостоятельной ходовой вахты не допущены. Командиры, кораблей, особенно малых кораблей – дивизион сторожевых кораблей, миноносцев, значительная часть командиров подлодок – подготовлены плохо, и особенно плохо командиры кораблей Отряда учебных кораблей – «Курсант», «Ленинградсовет», «Комсомолец». Ни одно соединение не выполнило полностью задач боевой подготовки 1938 г. Особенно большое отставание в области тактической подготовки. Совершенно недостаточна практика совместного плавания, как днем, так и ночью. МОУ и БОУ проводились без достаточной предварительной подготовки отдельных соединений» [43] .
Далее начальник Военно-морской инспекции прошелся по всем соединениям КБФ, указав на конкретные упущения в их боевой подготовке. В конце доклада флагман 2 ранга К.О. Осипов уделил особое внимание подготовке КБФ к десантной операции, которая предполагалась в ходе проведения маневров. По заключению флагмана 2 ранга К.О. Осипова, которое основывалось на актах проверки БП, предполагаемая высадка десанта была совершенно не подготовлена ввиду отсутствия должной организации и несоответствия средств высадки местным условиям. Вывод, к которому он пришел, гласил: «Десантная операция в целом не подготовлена и выполняться в таком виде не может» [44]. Здесь будет уместным вспомнить удручающие результаты десантного учения в 1937 г. на Балтике. Выходит, что год спустя картина с этим видом БП стала еще хуже.
Представляется несомненным, что выводы Военно-морской инспекции в значительной степени повлияли на последующую негативную оценку руководства наркомата ВМФ. А именно
7 сентября 1938 г. вышел приказ исполняющего должность (и.д.) наркома ВМФ флагмана флота 2 ранга П.И.Смирнова-Светловского № 0253, где последний подверг резкой критике состояние боевой подготовки на Балтийском флоте. И.д. наркома сразу подчеркнул, что, «несмотря на некоторые достижения в области подготовки одиночного корабля и огневой подготовки, имеется ряд крупных недочетов, которые в значительной мере снижают достигнутые успехи и боевую подготовку в целом» [45] . Одним из основных недостатков в БП флота было отмечено большое количество аварий и катастроф на кораблях и в частях морской авиации. Кроме того, наблюдался разрыв между уровнем огневой и тактической п одготовки , было указано на недостаточно хорошее взаимодействие однородных тактических и маневренных соединений для действий в дневных сложных условиях и неготовность соединений и отдельных кораблей к ночным действиям. Боевая подготовка в разных соединениях, по мнению П.И. Смирнова-Светловского, протекала неравномерно. Штурманская подготовка командиров была признана плохой [46]. Штабы соединений как органы боевого управления не были отработаны. Оперативная документация, по мнению исполняющего должность наркома ВМФ, была неудовлетворительная, оперативный контроль за исполнением приказов отсутствовал. Командирская учеба на кораблях, соединениях и в штабах не была организована и целеустремлена на изучение новой техники и ее освоение. Поскольку командный состав значительно омолодился в результате репрессий и перестановок, требовалось упорно работать над повышением уровня его оперативно-тактической подготовки . Командиры вообще плохо работали над собой в плане усовершенствования своих теоретических знаний [47]. За плохое руководство боевой подготовкой соединений командиру Бригады линкоров капитану 1 ранга Н.Н. Несвицкому и командиру 1 -й бригады ПЛ флагману 2 ранга Е. К. Самборскому было поставлено на вид [48]. Тут уместно заметить, что последний был вскоре арестован органами НКВД и провел под стражей несколько месяцев.
В период с 27 по 30 сентября 1938 г. Краснознаменным Балтийским флотом было проведено большое отрядное учение (БОУ) № 4 на тему «Расширение плацдарма действий КБФ и недопущение прохода в восточную часть Финского залива эскадры линейных кораблей противника днем ». Оперативный фон учения был составлен в соответствии с указаниями первого заместителя наркома ВМФ флагмана флота 2 ранга П.И.Смирнова-Светловского, которые, правда, были «сокращены вследствие недостаточной подготовки флота в целом (отставание тактической подготовки)» [49] . Учебные цели БОУ №4 были аналогичны целям БОУ №1 и БОУ №2 [50]. Не вдаваясь в подробности хода большого отрядного учения №4, стоит рассмотреть его результаты.
Общий вывод по проведенному учению оказался, как и прежде, более чем сдержанным. Несмотря на стандартную оптимистическую формулировку: «КБФ овладел методом сложного взаимодействия всех сил в ударе и в бою, на базе БУМС-37, с применением его к специфическим условиям местности », тут же было указано, что оценка БОУ «может быть дана только удовлетворительная (на сегодня), т.к. практического овладения всеми тактическими приемами еще нет » [51].
В качестве наиболее крупных недостатков были зафиксированы: неграмотные действия многих командиров надводных кораблей при сближении и организации боя с противником, слишком позднее и рискованное развертывание сил авиации, плохо отработанные приемы постановки дымовых завес, разворота и отхода надводными кораблями и т.д. Относительно работы штаба КБФ во время учения отмечалось, что он « еще не имеет той тщательности в работе и того уровня штабной культуры, которой гарантирует командование от неожиданностей и срывов » [52].
Итак, как мы видим из приведенных материалов анализа архивных документов, решающего прорыва в деле боевой и оперативно-тактической подготовки личного состава на КБФ в 1938 г. так и не было достигнуто. Более того, наметился процесс явного ухудшения боевой подготовки флота (если не сказать, провал), связанный напрямую с прокатившимися по флоту массовыми репрессиями. Массовые аресты командиров на флоте вызвали потребность в выдвижении большого количества молодых , неопытных офицеров на всех уровнях, что неизбежно должно было сказаться на уровне боевой подготовки ВМФ. И как видно, сказалось. Так что вполне логичным и неудивительным представляется общий вывод в итоговой части «Отчета по боевой подготовке Военно-Морского Флота СССР за 1938 г.», составленного Управлением Боевой подготовки (УБП) ВМФ: «... Несмотря на некоторые достигнутые успехи, Военно-Морской Флот приказа Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0112 не выполнил, и Флот имеет еще очень много недочетов в боевой подготовке» [53] .