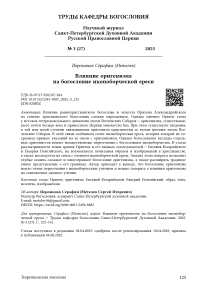Влияние оригенизма на богословие иконоборческой ереси
Автор: Иеромонах Серафим (Метелев)
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Влияние раннехристианского богослова и экзегета Оригена Александрийского на генезис христианского богословия сложно переоценить. Однако именно Ориген стоял у истоков гетеродоксального движения эпохи Вселенских Соборов — оригенизма, существовавшего почти четыре века и принесшего Церкви множество бед. При этом существуют сведения, в той или иной степени связывающие оригенизм практически со всеми ересями эпохи Вселенских Соборов. В этой связи особняком стоит иконоборческая ересь, история которой не сохранила прямых указаний на ее связи с оригенизмом. Однако богословские взгляды отдельных оригенистов имеют множественные пересечения с богословием иконоборчества. В статье рассматриваются точки зрения Оригена и его видных последователей — Евсевия Кесарийского и Евагрия Понтийского, на возможность почитания образов и изображений в христианстве, а также исследуется их связь с учением иконоборческой ереси. Анализ этого вопроса позволяет глубже понять сложное и многогранное богословие оригенизма, а также расширить традиционное представление о его границах. Автор приходит к выводу, что богословие оригенизма имело точки пересечения с иконоборческим учением и можно говорить о влиянии оригенизма на становление данного учения.
Ориген, оригенизм, Евсевий Кесарийский, Евагрий Понтийский, образ, тень, молитва, изображения
Короткий адрес: https://sciup.org/140312233
IDR: 140312233 | УДК: 26-87:27-9|02/07|-284 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_125
Текст научной статьи Влияние оригенизма на богословие иконоборческой ереси
Иконоборческий кризис, длившийся более ста лет1 и породивший бесчисленное количество богословских дискуссий, прений и осуждений, стал одним из самых серьезных испытаний за всю историю Церкви. Это был последний вопрос, для решения которого был созван Вселенский Собор, но даже он не поставил окончательную точку в истории этого спора2. Несмотря на весьма продолжительный период кризиса и обилие полемических и исторических трудов, до сих пор не удается точно ответить на вопрос происхождения иконоборчества. В рамках данной статьи будет рассмотрено предположение, что некоторые взгляды Оригена и дальнейшая их интерпретация его последователями оказали определенное влияние на взгляды и аргументацию противников иконопочитания. Следовательно, предполагается связь между оригенизмом, как богословским направлением эпохи патристики, и иконоборчеством. В случае подтверждения таковой связи возможно расширение исторических3 и богословских рамок оригенизма. Соответственно, в задачи настоящей статьи входят рассмотрение взглядов Оригена на возможность почитания изображений, поиск дальнейшей интерпретации его взглядов в наследии оригенистов и их сопоставление с богословием эпохи иконоборческого кризиса.
Следует отметить, что богословские рассуждения, которые могут быть интерпретированы в иконоборческом духе, можно обнаружить в наследии Отцов и учителей Церкви раннехристианской эпохи еще до Оригена. Богословие эпохи раннего христианства одной из своих задач заявляло противостояние с языческим идолопоклонством и недопущение проявления подобных форм поклонения в Церкви, где поклонение должно быть перенаправлено с тварного на Творца. Так, мч. Иустин Философ весьма активно изобличал разного рода изображения как оскорбительные и неподобающие Богу, «который имеет неизреченную славу и образ» (Apologia I,9)4. Под влиянием платоновского умаления чувственного восприятия Александрийская богословская школа, представленная Климентом Александрийским и Оригеном, выступала против использования изображений5. Климент Александрийский был против использования образов, полагая, что они далеки от оригинала и истины (Protrepticus, X, 98)6.
Ориген Александрийский и оригенизм применительно к вопросу почитания изображений и образов
Ориген — чрезвычайно разносторонний и эрудированный богослов, испытавший на себе влияние различных учений и философских систем, прежде всего, неоплатонизма7: «Ориген посещал философскую школу основателя неоплатонизма Аммония Сакка (Саккофорос — носитель мешков) и облекся в философский плащ; а для лучшего проникновения в смысл Св. Писания брал уроки еврейского языка у раввина Гуилла. Посвящая день общественному служению, он в ночное время занимался самообразованием. Система неоплатонизма и творения Платона положили большой отпечаток на мировоззрение Оригена, но он прекрасно ознакомился и с широко распространёнными в его эпоху стоическими и эпикурейскими взглядами»8. Об этом же свидетельствовал и сам Ориген в «Истории» Евсевия Памфила: «Когда я стал усердно изучать Слово, и пошла молва о моих занятиях, тогда ко мне стали приходить то еретики, то эллинские ученые, преимущественно философы, и я решил тогда основательно рассмотреть учения об истине и еретические, и философские»9.
Несмотря на то, что сам Ориген неоднократно публично заявлял о себе как о «человеке Церкви» и открещивался от разного рода ересей10, учение его было осуждено11: «бдительные, пусть и порой предвзятые стражи, такие как свв. Епифаний Кипрский, Мефодий Олимпийский и старцы монастырей, возбудивших процесс против последователей Оригена, не знали никаких компромиссов с полуязыческим интеллектуализмом. Они видели величайшую опасность в том, что Церковь устами своих предстоятелей начнет учить вымыслу, а не правде, которая только во всей своей суровости может качественно преобразить человека и только в этой жизни, а не в грядущих эонах, доставить ему спасение. Вот причина, почему Ориген был осужден Вселенскими Соборами»12.
Как и его предшественник, один из основателей александрийской богословской школы Климент Александрийский, Ориген намеренно не сводил своих идей в схематические построения, хотя и был, по мнению Н. И. Сагарды, «методически исследующим учёным»13. «В связи с этим, реконструировать его философскую систему можно лишь путем вычленения ключевых идей в его трудах, посвященных теоретическим вопросам христианства и филосо-фии»14. Подобные «вычленения» и «реконструкции» были сделаны его ближайшими последователями — оригенистами, положившими начало целому направлению христианской богословской мысли — оригенизму15. По мнению свящ. Михаила Легеева, «эта идущая от Оригена линия преемства в конечном счете принесет Церкви много бед: существуя в полускрытом состоянии на начальном этапе своего исторического развития, она обретет “второе дыхание” в IV веке, с возникновением монашества, и, привившись на его почве в лице аскетического оригенизма Евагрия Понтийского, укрепится в V–VI веках»16.
Как отмечал прот. Георгий Флоровский, «характер и общий строй ори-генизма, несомненно, благоприятны для богословского мышления, присущего иконоборцам»17. Хотя Оригена, по всей видимости, нельзя назвать догматистом в строгом смысле слова18, в его наследии (а именно, в его протологии, Христологии и эсхатологии) можно обнаружить определенные предпосылки иконоборческого богословия. Так, по Оригену, спасение осуществляется следующим образом: этому миру изначально предсуществовали души. Ориген утверждает: «…точно так же и душа, именуемая погибшей некогда, может быть и не была еще погибшей и поэтому не называлась душою, и когда-либо снова избавится от погибели наименования душою» (De Princ. II. 3. 1.)19. По его мнению, этимология слова «душа» происходит от греческого глагола «ψύχω» (охладевать, охлаждать), и, соответственно, некогда пылающие к Богу любовью умы охладели и превратились в души. «Итак, необходимо, проанализировать, не именуется ли душа «ψυχή» душою, потому что она ослабла к рвению праведных духов и охладела к участию в божественном огне. … При этом, однако, она не потеряла способности к восстановлению в то состояние святости, в котором была в начале» (Ibid.)20. Сама по себе душа представляет собой (как следует из указанного отрывка) уже падшее состояние охладевшего по отношению к Богу предшествующего ей ума. В будущем у неё есть потенциальная возможность восстановления, которое становится возможным только через Иисуса Христа, оставшегося единственной «разумной тварью», стремящейся к созерцанию Бога, и вследствие этого стремления не испытавшей последствий грехопадения. Этот человек — Иисус Христос, который, в отличие от других разумных тварей21, не злоупотребил своей нравственной свободой, но сохранил своё изначальное и неразрывное соединение с Божественным Логосом, будучи его тварным носителем. «Логос- Слово является неосквернённым зеркалом Отчей энергии. Он рождён раньше Первоархангелов и Ангелов, он — Начало после Начала безначального. По Оригену, Логос обитал в первом человеке Адаме, и он же является Иисусом Христом, новым Адамом»22. Он и стал той уникальной человеческой душой, в которой Сын Божий в назначенное время осуществил своё воплощение, сделавшись Богочеловеком (др.-греч. «θεάνθρωπος»)23. Анализируя онтологический статус Богочеловека, свящ. Димитрий Лебедев отмечал: «Сын Божий, по Оригену, есть Премудрость Божия, но Он не есть ни часть существа Бога, ни Его качество, а есть особая ипостась, или природа, существует субстанциально»24.
По мнению В. Я. Саврея, «Бог предвидел возможность свободного падения тварей и заранее приготовил для Единородного Сына создание, в котором Он воплотится для спасения падших. Эта концепция, происхождение которой, очевидно, не евангельское, и даже не философское, а только плод синтетических усилий самого Оригена, все же имеет определенную ценность для развития всей системы александрийского мыслителя: она в очередной раз подчеркивает принципиальное отличие Сына, как Бога, от интеллигибельного мира»25.
Роль Христа в акте спасения скорее не искупительная, а педагогическая — путем поучений, нравоучений и внушений, не нарушая свободы сотворённых существ, постепенно привести мир к всеобщему восстановлению. Как метко подметил С. В. Серегин, для Оригена «будущий век» есть «один из этапов педагогического процесса, подготавливающего всеобщее восстановление в конце всей цепочки веков»26. Таким образом, Христос в понимании Оригена — человек, такой же, как и обычные люди, но сохранивший единство с Богом «по сущности» (др.-греч. ομοούσιος — «единосущный Богу»)27. Однако это единство Христос, по Оригену, открывал и проявлял выборочно и неодинаково. Внешний вид Христа зависел от того, насколько созерцающий готов был Его воспринять (пример такой изменчивости — Преображение на горе Фавор). «Он взошёл на гору, куда за ним последовали только одни ученики, и где он говорил с ними о блаженствах, и только при наступлении вечера при подошве горы Он стал исцелять больных… я не думаю, что страждущим, которые искали у него исцеления, Он представлялся точно таким же, как и тем, крепким своей силой, которые могли взойти с Ним на гору» (CCels. II. 64)28. По Оригену, изменчивость облика Христа связана с самой «природой Божественного Слова», ведь открывается Она не всем одинаково. Для «сынов человеческих», т. е. людей неподготовленных, Христос предстал как «не имеющий ни вида, ни красоты», а для способных следовать за Ним показал такую превосходящую красоту, что три ученика должны были пасть ниц29. Таким образом, тело Христа при жизни было особым, а после Воскресения — произошло полное слияние с Божеством. «Это мы говорим вовсе не затем, чтобы отделить Сына Божия от Иисуса. В особенности после совершения домостроительства тело и душа Иисуса соединились со Словом Божиим самым тесным образом» (CCels. II.9)30.
Таким образом, согласно Оригену, религиозное поклонение Христу возможно только умозрительным образом. В начале своего трактата «О началах», комментируя беседу Иисуса Христа с самарянкой (Ин 4:24), Ориген противопоставляет такое истинное поклонение ложному телесному поклонению в рамках определённого сакрального образа или места. Он предлагает две пары противоположностей — дух в противоположность телу и истина в противоположность образу или тени: «…по поводу подобного мнения самарянки, которая думала, что вследствие преимущества телесных мест, или иудеи в Иерусалиме, или самаряне на горе Гаризим не совсем правильно и законно поклонялись Богу, Спаситель и ответил, что желающий следовать Господу должен оставить предрассудок относительно преимущества мест, и в данном случае говорит так: “Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” (Ин 4:23–24). И как последовательно Он соединил истину с духом: в отличие от тел Он назвал дух, а в отличие от тени или образа — истину, в самом деле, те, которые поклонялись Богу в Иерусалиме, служили, собственно, тени или образу и, следовательно, почитали Бога не истиною и не духом» (De princ. 1.1.4)31. Далее следует вывод, что истинный, преображённый облик Христа не поддаётся никаким описаниям и изображениям: «Опровергши, по возможности, всякую мысль о телесности Бога, мы утверждаем, сообразно с истиной, что Бог непостижим и неоценим» (Ibid. 1.1.5)32. Для Оригена способом подлинного поклонения Богу является поклонение в духе, т. е. в умопостигаемом виде, при котором нет нужды в образах (CCels. VI.70)33. Поскольку подобное противопоставление обнаруживается и в наследии иконоборцев, на этот момент следует обратить внимание и сопоставить взгляд Оригена и представителей иконоборческой доктрины VIII в.
Как уже говорилось, богословие раннехристианской эпохи отличалось стремлением обосновать ничтожность языческого поклонения идолам. Среди многочисленных трудов Оригена присутствуют и полемические, в которых он изобличает поклонение рукотворным вещам. Говоря об идолах и «всевозможных изображениях», Ориген настаивает, что им не подобает оказывать почитание, каковое приличествует лишь Богу, и во всех людях, желающих быть христианами, следует пробуждать презрение к идолам и изображениям
(CCels III.15)34. Дополнительный аргумент христиан (разделяемый и Оригеном, и его противником Цельсом) против служения идолам и прочим рукотворным вещам, — нечистота самих людей, руками которых создаются «боги»: «Трудно представить, чтобы богами могли быть произведения дурных и безнравственных художников» (Ibid. I.5)35.
Любопытно, что в наследии Оригена существует аргумент, который, по всей видимости, может быть использован сторонниками иконопочита-ния для отстаивания возможности почитания изображений, при кажущемся противоречии со второй заповедью Закона Божия. Размышляя и толкуя текст книги «Исход», Ориген замечает, что есть большая разница между языческими идолами, которые, претендуя на то, чтобы быть богами, даже не существуют в реальности, и изображениями, которые суть образы существующего (Hom. on Ex. VIII. 3)36. Эту мысль повторит и защитник иконопочитания свт. Никифор Константинопольский, о чем будет сказано ниже.
Многие взгляды Оригена получили развитие с течением времени трудами оригенистов. В наследии некоторых из них также прослеживается тематика борьбы с религиозными образами и изображениями. Среди авторов, входящих в проблематику развития и становления оригенизма, а также применительно к исследуемой теме особо стоит выделить двух сторонников Оригена — Евсевия Кесарийского и Евагрия Понтийского37. Прот. Георгий Флоровский38 связывает Оригена и Евсевия, оригенизм и иконоборчество, называя последнее «новой страницей в истории оригенистских споров»39. Однако доказать связь оригенизма и иконоборчества на основании одного оригениста — Евсевия, на наш взгляд, не представляется возможным. Чтобы говорить о взаимосвязи двух еретических направлений, следует изучить также взгляды одного из наиболее ярких представителей оригенизма — Евагрия Понтийского.
Письмо Евсевия Кесарийского к августе Констанции.
Анализ содержания
Как известно, в своих богословских теориях иконоборцы обращались как к Св. Писанию, так и к Св. Преданию. Среди их апелляций к последнему исследователями особо выделяется письмо Евсевия Кесарийского (Памфила) к сестре первого христианского императора августе Констанции40. Данный документ полностью не сохранился. Его частично цитировали и обсуждали в контексте богословских споров во время заседаний Никейского Собора 787 г., неоднократно на него ссылался и защитник иконопочитания свт. Никифор, патриарх Константинопольский. Точную датировку письма установить не удалось. Внешним поводом к написанию письма была просьба августы Констанции, сестры Константина Великого, прислать ей для каких-то её духовных нужд «икону Христа». Евсевий Кесарийский категорически отказался сделать что-либо подобное и написал в ответ пространное письмо, основная мысль которого предельная проста и полностью совпадает с его догматической позицией: христианам нет смысла обращаться в своих молитвенных прошениях к искусственным изображениям Христа. Развивая свою мысль, Евсевий размышляет: каков образ Спасителя на иконе (εικόνος)? Образ неизменный и истинный, или образ, который Христос принял ради нас — «образ раба»? Полагая, что Констанция просит образ во втором смысле («образ раба»), т. к. образ Бога в первом смысле для человека недоступен (поскольку «никто не достоин знать Сына, кроме родившего Его Отца»41), Евсевий замечает, что «образ раба», или «зрак раба», воспринятый Спасителем после соединения с плотью, т. е. после Воплощения, слился с Его Божеством. Это было явлено еще при земной жизни Господа и особо проявилось в момент Преображения. Славу этого образа не могли выдержать даже ученики, и его невозможно передать «мертвыми и бездушными красками или в рисунке»42. Все, что остается сделать в таком случае — следовать языческой практике, ибо язычники, когда хотели изобразить бога или героя, не достигали ни подобия, ни образа, а просто делали фигуры людей43.
Если же возжелать, по мнению «отца церковной истории», изображения не преобразившегося и соединившегося с Божеством «образа раба», а икону плотского и смертного человека (т. е. человеческой природы Христа до Преображения), тогда следует вспомнить Ветхозаветный запрет сотворения изображений того, что на небе вверху, и что на земле внизу (Исх 20:4; Втор 5:8)44. По логике Евсевия, единственный возможный образ Богочеловека — это образ Его уничижения. Однако такие образы запрещены Законом, и по этой причине в Церкви их быть не может. Если же христианин все же захочет иметь такие образы дома, то он уподобляется языческим идолопоклонникам.
В письме к Констанции Евсевий не отрицает, вероятно, саму иконографию, но отрицает возможность изображения Христа средствами искусства. Подобные рассуждения возможно интерпретировать и дальше, распространяя их на всю иконографию. Однако заслуживает внимания еще один момент. В другом своем труде Евсевий без критического осмысления описывает факт почитания в Кесарии Филипповой изображения (фигуры) Христа, воздвигнутого в благодарность и в память об исцелении кровоточивой женщины в Капернауме (Мф 9:20–23, Мк 5:25–34). Более того, Евсевий пишет, что видел ее собственными глазами (Hist. Eccl. VII.18.3)45. Подобно этому, в жизнеописании василевса Константина он описывает щедрость императора в украшении многих церквей картинами и без осуждения упоминает символ доброго пастыря и пророка Даниила среди львов, которых он воздвиг для украшения общественных фонтанов46. Несмотря на это, Евсевий в трудах исследователей предстает как противник христианского искусства.
Богословские рассуждения Евсевия Кесарийского были отвергнуты Церковью как ересь, и в историю православного богословия он вошел как еретик, тяготевший к арианству, которому прямо или косвенно он симпатизировал всю свою жизнь. Так, в частности, став епископом Кесарийской Церкви, Памфил с самого начала занял не совсем православную позицию, которая выразилась в попытках компромисса между свт. Александром Александрийский, с одной стороны, с еретичествующим Арием, с другой. По его мнению, свт. Александр не хотел давать свободу богословской мысли. В 335 г. император Константин созвал Собор в Тире для примирения враждующих, на котором, во многом стараниями Евсевия, был осужден свт. Афанасий Великий47.
Не отвергая очевидного факта принадлежности Евсевия Кесарийского к ереси арианства, некоторые православные исследователи (прежде всего прот. Георгий Флоровский) на основе анализа указанного письма приходят к выводу, что, ко всему прочему, Евсевий Кесарийский был также сторонником и популяризатором идей Оригена, что, в принципе, вполне объяснимо, ведь Кесария, в которой он жил и трудился, была оплотом оригениз-ма. Как отмечает современный исследователь, «Кесария Каппадокийская явилась второй Александрией для Оригена и будущих его последователей и стала центром богословского образования, как в Палестине, так и прилегающих к ней странах. Поэтому неудивительно, что Евсевий, как прилежный ученик впитал в себя многое от Оригена, сделавшись ревностным его по-следователем»48. Как известно, Евсевию Кесарийскому принадлежит авторство фундаментального труда по истории Древней Церкви — знаменитой «Церковной истории». Именно в этой книге подробно описывается жизнь Оригена, со множеством пересекающихся событий того времени. Также рассказывается о взаимоотношениях Оригена с церковным клиром и об отношении к нему самому окружающих его людей. Евсевий уделяет много внимания Оригену как богослову, экзегету и исповеднику христианской веры49. Оригенистскую интенцию Евсевия подметил и подробно описал в своей работе, посвященной оригенизму и иконоборчеству, прот. Георгий Флоровский: «оригенистский характер письма Констанции не подлежит сомнению. Очевидно, иконоборцы боялись повредить себе и потому не осмелились призвать в союзники Оригена. Однако характер и общий строй оригенизма, несомненно, благоприятны для богословского мышления, присущего иконоборцам. Поэтому защита святых икон была в какой — то мере косвенным опровержением оригенизма, новой страницей в истории «ори-генистских споров»50.
Евагрий Понтийский и практика «умной молитвы»
Как уже говорилось, для того чтобы подтвердить или опровергнуть мнения исследователей относительно связи оригенизма и иконоборчества, следует рассмотреть воззрения на проблематику образов и практику представлений образов в молитве в трудах монаха- аскета IV в. Евагрия Понтийского.
Нет сомнений в том, что Евагрий относится к оригенистам. Его имя ставится в один ряд с именами Оригена и Дидима отцами VI Вселенского Собора51, а его вклад в развитие неправославного вектора развития одноименного александрийскому мыслителю движения признается как существенный52. Причиной анафематствования Евагрия стало развитие им протологии, христологии и эсхатологии Оригена, но отнюдь не аскетические воззрения, влияние которых хорошо заметно на выдающихся Отцах Церкви последующего периода.
Учение Евагрия Понтийского о молитве, в некоторых аспектах которого так же заметно влияние Оригена, многогранно. Нас же интересует его учение о «безо́бразной» молитве и о возможном влиянии его на иконоборческое движение.
В труде «Слово о молитве» Евагрий предостерегает от ошибочных принятий чувственных явлений за переживание Бога, т. к. Он выше «всякого чувства и мысли» (De oratione 4)53. Во время молитвы непозволительно каким-либо чувственным образом, материально приступать к Нематериальному. Облекать Бога в зримые формы, согласно Евагрию, недозволительно (Ibid. 67)54, и блажен тот ум, который отрекается от всего вещественного во время молитвы и свободен от материальных образов (Ibid. 117,119–120)55. Необходимо всячески избегать желания во время молитвы зрением чувственным узреть лик или вид Бога или Его Святых творений: «Не желай видеть чувственным образом ни Ангелов, ни Силы, ни Христа, дабы не стать полным безумцем, принимая волка за пастыря и поклоняясь [вместо Бога] супротивникам бесам» (Ibid. 115)56.
Таким образом, труды Евагрия Понтийского могли послужить развитию иконоборческого движения, тесно связанного с практикой молитвы без образов. Молитва эта была призвана направлять монаха к единению с Богом без использования образов, тем самым возражая против антропоморфизма. Такая практика встретила сопротивление со стороны египетских монахов. У прп. Иоанна Кассиана Римлянина можно найти повествование о том, как египетские пустынники отвергли письмо, в котором изобличалась ересь антропоморфизма, а один монах по имени Серапион, которому настоятельно порекомендовали отказаться от использования образов во время молитвы, глубоко расстроился и произнес: «отняли у меня моего Бога и теперь не знаю, кому поклоняться и к кому обращаться» (Conf. 10.3)57. Эта полемика возвращает нас к отправной точке «первого оригенистского кризиса» — т. н. антропоморфистскому спору, который преподносится в источниках как спор между простецами, настаивавшими на телесности Бога, и учеными монахами- оригенистами58. Данная тема заслуживает отдельного изложения, здесь же стоит отметить, что на более позднем этапе практика молитвы без образов отнюдь не исключала использование изображений, что подтверждается выдающимися последователями аскетической и иси-хастской традиций, такими как, например, свт. Григорий Палама59, который призывал к почитанию св. изображений60.
Оригенизм и иконоборчество. Компаративный анализ
Сравнивая идеи Оригена и богословские рассуждения Евсевия Кесарийского, можно отметить их типологическое сходство. Несмотря на то, что сам Ориген напрямую не касался проблематики живописных изображений, всё то, что он говорил против языческих идолов61, можно было с успехом обратить против сторонников иконопочитания, что, как известно из истории Церкви, и было сделано иконоборцами. Христология же Оригена послужила для Евсевия Кесарийского исходным пунктом и отправной точкой его богословской аргументации; фактически ему оставалось лишь немного продолжить мысль Оригена и произвести из неё логическое умозаключение, что и было сделано в указанном письме августе Констанции. Последовательный оригенист Евсевий не проявляет к рукотворным образам Христа никакого интереса. Причины такого понимания изложены в богословских построениях Оригена, — истинный облик Спасителя не может быть изображен, а то, что можно было бы изобразить, уже побеждено. Еще одной причиной для последовательных оригенистов, согласно которой изобразить истинный образ Христа не представляется возможным, является тот факт, что изображение, каким бы оно ни было, это некий образ для ограниченного восприятия. Такой образ назвать истинным и допустить поклонение ему не представляется возможным.
Ответ Оригену, Евсевию и Евагрию с точки зрения православного богословия
Правосл авный ответ иконоборческим взглядам был дан прп. Иоанном Дамаскиным и свт. Никифором, патриархом Константинопольским. Прп. Иоанн широко известен своими выдающимися трудами, среди которых — защита иконопочитания. Противопоставление материального и духовного, негативное отношение к первому и, как следствие, отрицание возможности использования чувственного восприятия в процессе молитвы, прп. Иоанн доводит до крайней формы, показывая несостоятельность такого подхода. Он пишет: «Если же ты говоришь, что соединяться с Богом до́лжно только мысленно, то устрани всё телесное, лампады, благовонный фимиам, самую молитву, произносимую голосом, самые божественные таинства, совершаемые при посредстве вещества, хлеб, вино, елей помазания, крестное знамение»62. Здесь необходимо определиться: устранить все это, либо же признать честь, которая необходимо приличествует изображениям. Прп. Иоанн иронически замечает: «ты, конечно, быть может, и высок, и невещественен, и — выше тела, и, как бесплотный, оказываешь презрение ко всему видимому; но я, так как есмь человек и облечён телом, сильно желаю и телесно быть в обществе с тем, что свято и видеть это. О, высокий, окажи снисхождение низменной моей мысли, чтобы тебе [самому] сохранить свою высоту»63. Это полемическое замечание отражает суть взглядов самих иконоборцев. В постановлении иконоборческого Иерийского Собора определено поклоняться Духовному Божеству (νοερᾷ ϑεότητι) духовно, или в духе (νοερώς)64.
Другой полемический труд принадлежит свт. Никифору, патриарху Константинопольскому. Сравнивая истинное поклонение иконам и отличая его от идолопоклонства ложным богам, «патриарх Никифор подчёркнуто различает икону и идол: первый есть образ существующего первообраза, а последний есть образ несуществующего первообраза, а следовательно ложный и пустой образ»65. В этом аргументе, по мнению исследователя, можно усмотреть влияние Оригена на развитие богословской аргументации защитников иконопочитания. Действительно, одним из наиболее развитых аргументов иконоборцев стало применение ветхозаветного запрета на поклонение идолам к иконопочитанию. Защитники же почитания икон старались приложить усилия к ниспровержению этого аргумента, что получилось сделать свт. Никифору путем демонстрации важнейшего отличия иконы от идола. Подобная отличительная особенность обнаруживается в наследии Оригена, а именно в его «Гомилиях на Книгу Исход», где он отличает «подобия» от «идолов» именно по принципу существования в мире. Идол есть ничто, он не существует в мире, а подобие есть образ существующего (Hom. on Ex. VIII. 3)66. Свт. Никифор практически повторяет Оригена: образ и подобие существуют, а идол есть вымысел вещей, которые не существуют (Antirrheticus I. 28–29)67. Таким образом, идеями Оригена вполне могли пользоваться не только представители иконоборческого богословия, но и, в некоторых случаях, защитники почитания икон.
Заключение
Влияние и богословское наследие Оригена на его учеников и последователей было исключительно велико и распространялось в Византии как при его жизни, так и после его смерти. Оригенизм крепко пустил корни в теле христианства. Среди его последователей выделяется сторонник иконоборческой концепции Евсевий Кесарийский, который интенсивно использовал идеи александрийского мыслителя. Изучение взглядов другого выдающегося оригенистского деятеля — Евагрия Понтийского, позволяет аргументированно предположить наличие предпосылок к иконоборчеству в оригенистском учении. Позже, в разгар полемики о возможности или невозможности почитания икон, вновь вспыхнул интерес к Оригену. В умозрительно безо́бразном подходе иконоборцев, очевидно, наблюдаются отличительные элементы богословских взглядов Оригена. Однако, точное определение каналов передачи оригеновского влияния до конца неясно и все ещё остаётся задачей будущих исследований.