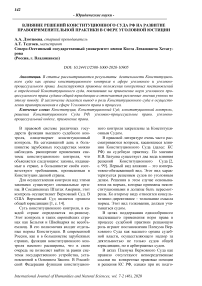Влияние решений Конституционного Суда РФ на развитие правоприменительной практики в сфере уголовной юстиции
Автор: Дзотцоева А.А., Тедтоев А.Т.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 7-2 (46), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются результаты деятельности Конституционного суда как органа конституционного контроля в сфере уголовного и уголовно-процессуального права. Анализируются правовые положения конкретных постановлений и определений Конституционного суда, повлиявших на применение норм уголовного процессуального права судами общей юрисдикции и отмечаются различные мнения ученых по этому поводу. В заключение делается вывод о роли Конституционного суда в осуществлении правоприменения в сфере Уголовного права и процесса.
Конституция, конституционный суд, конституционный контроль, решения конституционного суда рф, уголовно-процессуальное право, уголовно-процессуальный кодекс, применение права
Короткий адрес: https://sciup.org/170187947
IDR: 170187947 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10905
Текст научной статьи Влияние решений Конституционного Суда РФ на развитие правоприменительной практики в сфере уголовной юстиции
В правовой системе различных государств функции высшего судебного контроля, олицетворяет конституционный контроль. На сегодняшний день в большинстве зарубежных государствах можно наблюдать расширение применения системы конституционного контроля, что объясняется следующим: законы, издаваемые в стране, в большинстве своём соответствуют требованиям, прописанным в Конституции данной страны.
Для осуществления контроля над этими законами существуют специальные органы. В Соединенных Штатах Америки, этот контроль осуществляет Верховный Суд. В США Верховный Суд является органом общей юрисдикции [1, с. 14].
Суть конституционного контроля, в каждой стране определяется по-разному. Этот контроль в таких европейских странах как Бельгия и Швейцария не всеобъемлющ. В его полномочия входят отдельные нормы Конституции. В современной России, как и в большинстве зарубежных странах, функции конституционного контроля намного расширены, что в свою очередь не позволяет выйти за рамки системы государственного устройства, установленной в Основном Законе. В Российской Федерации функции конституцион- ного контроля закреплены за Конституционным Судом.
В правовой литературе очень часто рассматриваются вопросы, касающиеся влияния Конституционного Суда (далее: КС РФ) на судебную практику. По мнению Н.В. Батуева существует два вида влияния решений Конституционного Суда [2, с. 99]. Первый вид влияния - это импера-тивно-обязывающий вид. Этот вид характеризуется решением судов по уголовным делам. Решения в этом случае основываются на нормах, которые признаны неконституционными и должны быть пересмотрены. Ко второму виду относится консультативно-директивное - толкование смысла нормы. Этот вид толкования, должен учитываться судом.
В целях поддержания единообразного надлежащего применения норм права в процессе судебной практики решающую роль играют постановления Пленума Верховного Суда как высшего органа судебной власти, осуществляющего надзор за деятельностью не только судов общей юрисдикции, но и арбитражных судов.
В актах Пленума Верховного Суда как правило отсутствуют непосредственные ссылки на конкретные правовые позиции и решения КС РФ, однако при их подго- товке обычно учитываются соответствующие правовые позиции Конституционным Судом.
Именно поэтому среди ученых-правоведов не вызывает сомнений утверждение о том, что в настоящее время Конституционный Суд Российской Федерации оказывает большое воздействие на развитие уголовно-процессуальных правоотношений. Ярким свидетельством этому являются следующие примеры разных лет.
Правовые положения Постановления Конституционного Суда «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки Л.А. Фоменко и запросом Верховного Суда Российской Федерации» от 11 февраля 2001 г. № 1-П, «По делу о проверке конституционности положений частей третьей, четвертой и пятой статьи 377 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан М.Н. Караулова, С.В. Смирновой, В.И. Хуторской, З.П. Самойловой, И.П. Стародубцева, Н.И. Терещенко, К.Л. Суховеева, В.К. Зиновьева» от 21 марта 2001 г. № 2-П, характеризуются как новшества своего времени, которые по популярности относятся к самым обсуждаемым [3, с. 871].
Основа этих нововведений заключается в состязательности в уголовнопроцессуальном праве. Исходя из положений вышеназванного Постановления, можно прийти к мнению о том, что суд, как участник уголовного судопроизводства не вправе осуществлять функции стороны обвинения. Суд не вправе возбуждать уголовное дело, также суд не может продолжать производство в общем порядке, в случае если прокурор отказывается от обвинения, а потерпевший со своей стороны не возражает. Согласно полномочиям, суд не имеет право на формулировку обвинения, равно как и не может быть инициатором процесса исследования новых обвинительных доказательств.
Все перечисленные положения относятся к принципу состязательности в уголов- но-процессуальном праве, и исключили у суда функцию обвинения.
В этих установлениях также присутствует следующая позиция: суд не имеет право исполнять функции, предназначенные для стороны обвинения, так как является участником уголовного судопроизводства. Это означает, что суд не вправе возбуждать уголовное дело. В случае, когда прокурор отказывается от предъявлений обвинения, и потерпевший не имеет претензий, суд продолжает производство в общем порядке, и в то же время не имеет полномочий формулировать обвинение. При этом введенные обсуждаемым постановлением положения определяют суду роль независимого арбитра, исключая тем самым функцию обвинения. А роль независимого арбитра заключается в том, чтобы разрешать споры между другими участниками судопроизводства: защитой и стороной обвинения.
В свете вышеизложенного интересно следующее: правовая позиция Конституционного Суда, высказанная не единожды в ряде его решений (в определениях от 12.07.2005 г. № 330-О и от 15.11.2007 г. № 801-О, в постановлениях от 02.07.1998 г. № 20-П, от 23.03.1999 г. № 5-П, от 22.03.2005 г. № 4-П; и др.), устанавливающих, что именно суд обязан оценить обоснованность подозрения о совершении данным лицом преступления, в связи с которым оно заключается под стражу в качестве подозреваемого, при этом суд не должен предрешать вопрос об обоснованности или необоснованности обвинения, была учтена Пленумом Верховного Суда, который изменил свою позицию по вопросу о проверке обоснованности подозрения при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если изначально в постановлении Пленума от 05.032004 г. №1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (пункт 4) разъяснялось, что судья не вправе во время рассмотрения ходатайства о заключении под стражу входить в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему преступлении, то в постановлении от 29.10.2009 года № 22 «О практике применения суда- ми мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (пункт 19) указано на обязанность суда дать в постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК Российской Федерации оценку обоснованности выдвинутого против лица подозрения, а также убедиться в достаточности данных об имевшем место событии преступления и о причастности к нему подозреваемого. В ныне действующем постановлении Пленума Верховного Суда от 19.12.2013 года № 41 (пункт 2) этот конституционно обоснованный подход получил еще большую детализацию.
Значимое воздействие на правоприменительную практику в сфере уголовного судопроизводства оказало Постановление КС РФ «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина Н.С. Лескова» от 16 августа 2011 г. № 11-П [4]. В результате рассмотрения данного дела в практику было введен принцип, называемый в соответствии с фамилией заявителя «правилом Лескова». Оно означает, что право на защиту с привлечением услуг адвоката у подозреваемого в совершении уголовного правонарушения появляется с начала ограничения его прав, свобод и интересов, а не тогда, когда ему объявляется протокол о задержании или, того позже, когда выйдет постановление о применении заключения под стражу.
Это правило позднее было включено в пп. 3 п. 4 ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ).
Учет правовых позиций, высказанных Конституционным Судом по соответствующему кругу вопросов, прослеживается и в следующем примере.
В указании Пленума Верховного Суда на то, что вынесенное в ходе досудебного производства в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, постановление о разрешении производства следственного действия или о законности следственного действия, произведенного без предварительного разрешения суда, не имеет преюдициальной силы для суда, рассматри- вающего дело по существу (постановление Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2017 года № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства), пункт 14), нашла отражение соответствующая позиция Конституционного Суда (определения от 16 декабря 2008 года № 1076-О-П, от 29 января 2015 года № 79-О и др.) [5].
В сфере уголовной юстиции реализация индивидуальных правоприменительных последствий решений Конституционного Суда, заключающаяся в пересмотре дел заявителей, а также в возобновлении производства по уголовным делам – в связи с тем, что применённые в соответствующих делах НПА или нормы были признаны неконституционными, проявляется и в следующих случаях судебной практики.
Например, ввиду принятия Постановления Конституционного Суда от 17.04.2019 г. N 18-П по делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 299, ст. 307 УПК РФ в связи с жалобой гражданки И.В. Янмаевой Верховным Судом было пересмотрено дело, решение по которому было основано на указанных статьях, и вынесено Постановление от 18.09.2019 г. N 57-П19.
Другим примером влияния на практику является Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2019 г. № 27-П по делу о проверке конституционности ст. 199 УК РФ по жалобе гражданина Д.Н. Алганова, ввиду принятия которого Президиумом Верховного Суда РФ было пересмотрено соответствующее дело и вынесено иное Постановление от 23.10.2019 г. N 120-П19.
Вопросы, касающиеся природы воздействия решений КС РФ на практику применения норм уголовно-процессуального права, очень обсуждаемы, и мнения ученых-правоведов относительно них весьма неоднозначны.
По мнению Н.В. Батуева, некоторые решения Конституционного Суда Российской Федерации оказали негативное воздействие на уголовное судопроизводство [2, с. 123].
Совершенно противоположной точки зрения придерживается С.П. Маврин. Исследователь считает, что решения, которые выносит Конституционный Суд, служат поправками в отдельных законодательных актах [6, с. 34].
На сегодняшний день, когда наблюдается рост влияния КС РФ на развитие законодательства, среди ученых-правоведов становятся популярными аргументации, которые лежат в основе решений Конституционного Суда РФ. И объясняется это довольно легко: согласно статье 6 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» его решения обладают обязательной силой, что способствует обеспечению единообразия применения норм права и верховенства Конституции.
Руководствуясь вышесказанным, следует определить ряд выводов о роли Конституционного Суда РФ в осуществлении правоприменения в сфере уголовного права и процесса, к числу которых относятся:
– Во-первых, следует отметить, что собственную точку зрения по совокупности правовых вопросов Конституционный Суд формирует в процессе осуществления
– Его правовые акты выступают в виде внешних выражений сути норм уголовнопроцессуального права.
– Также он способствует формированию направления совершенствования уголовно-процессуального права на территории государства и постоянно стимулирует данный процесс.
– Конституционный Суд создает основания для стандартизированного восприятия норм уголовного и уголовнопроцессуального права.
– В его решениях обозначается комплекс установок, способствующих надлежащей деятельности всех субъектов права.
Необходимо отметить важность обобщения и изучения практики по решениям Конституционного Суда, в том числе в сфере применения норм уголовного и уголовно-процессуального права, осуществляемого со стороны самого Конституционного Суда РФ на общем, а также локальном уровне, ведь его деятельность в целом обозначает вектор развития существующих правовых основ уголовной юстиции.
судопроизводства.
Список литературы Влияние решений Конституционного Суда РФ на развитие правоприменительной практики в сфере уголовной юстиции
- Конституционный контроль в зарубежных странах / Отв. ред. В.В. Маклаков. - М., 2010.
- Батуев Н.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-процессуального регулирования. - Ижевск, 2003.
- Смолькова И.В., Преловский П.О. Значение правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации для уголовного судопроизводства // Известия Иркутской государственной экономической академии. - 2015. - Т. 25, № 5.
- Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016) // БВС РФ. 2016. № 11-12.
- Конституционно-правовые аспекты совершенствования правоприменительной деятельности (на основе решений КС РФ 2016-2018 годов) / Официальный сайт Конституционного Суда РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Documents/Information_2018.pdf (Дата обращения: 30.05.2020).
- Маврин С.П. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: природа и место в национальной правовой системе // Журнал конституционного правосудия. - 2010. - № 6.