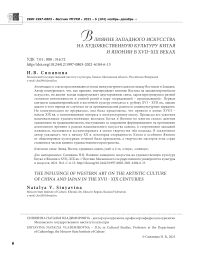Влияние западного искусства на художественную культуру Китая и Японии в ХVII-ХIХ веках
Автор: Синявина Н.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (104), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживаются этапы межкультурного диалога между Востоком и Западом. Автор подчеркивает, что, как правило, подчеркивают влияние Востока на западноевропейское искусство, но диалог всегда подразумевает двустороннюю связь, характеризующуюся разной степенью интенсивности и сменой ролей в паре «передающий - принимающий». Первые контакты западноевропейской и восточной культур относятся к рубежу ХVI - ХVII вв., однако диалог в этот период не случился из-за принципиальной разности социокультурных парадигм. Но коммуникация не прервалась, она была продолжена, что привело в конце ХVIII - начале ХIХ вв. к возникновению интереса к инокультурному опыту. Процессы его усвоения национальными художественными школами Китая и Японии во многом схожи: деление художников на традиционалистов, выступавших за сохранение формировавшего на протяжении длительного времени в рамках национального искусства канона, и сторонников западной живописи, пытавшихся ассимилировать в своем творчестве оба подхода. В заключении автор указывает, что к началу ХХ в. некоторая оторванность Китая и особенно Японии от общемировых культурных течений была преодолена, а творчество мастеров этих стран становится частью единого художественного пространства.
Запад, восток, традиция, канон, укиё-э, ё-га, «гохуа», «сиянхуа»
Короткий адрес: https://sciup.org/144162355
IDR: 144162355 | УДК: 7.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-6104-6-13
Текст научной статьи Влияние западного искусства на художественную культуру Китая и Японии в ХVII-ХIХ веках
К середине ХIХ в. относится формирование тенденции, направленной на возникновение единого культурного пространства. В этот период происходит активизация диалога между различными регионами, что, главным образом, связано с трансформацией социально-политических и экономических основ западного общества (в частности, переход к индустриальному типу цивилизации, который предполагает вовлечение в производство предприятий разных государств). Только теперь оно было готово знакомиться с иным историческим и культурным опытом, частично его усваивать, приходит понимание, что ни одна культура не может существовать в замкнутом пространстве, и даже отрицание или неприятие чужой традиции и уклада запускает механизм их сопоставления со «своим» [2].
Кроме того, в формировании художественного пространства Европы существенную роль сыграли исторический и географический факторы, поскольку территориальная близость стран обеспечивала тесные и частые межнациональные и межрегиональные кон- такты и в предыдущие периоды. Схож был и социокультурный контекст: особенности и этапы исторического развития европейских государств, формы правления, религиозная общность, основой которой выступало западное христианство. Результатом этого процесса в сфере культуры становится появление на каждом из историко-культурных этапов общеевропейского художественного стиля (в частности, романский и готический стили, романтизм, реализм, и т.д.), который определял вектор поисков мастеров искусства. Конечно, на его основе возникали местные варианты, присутствовали региональные отличия, что связано и с национальным самосознанием, и со специфическими особенностями социокультурного контекста, но эстетический фокус видения и технологии в целом оставались общими для большей части европейских школ, их стилистические проявления оказывались близкими друг другу.
Но как строился межкультурный диалог между регионами, с абсолютно разным опытом, образом жизни и укладом, с несхожими традициями? Рассмотреть особенности этого процесса можно на примере взаимоотношений художественных школ Европы, Японии и Китая.
Стремление Японии к некоторой закрытости отчасти связано с ее островным положением. Кроме того, это одно из немногих государств, избежавшее иностранных вторжений и насильственного привнесения на его территорию чужих и/или чуждых форм управления. Развитие Японии происходило «на основе объективных закономерностей – географических и этнических, - но при этом она на протяжении многих веков осваивала идейные течения и художественные формы, рождавшиеся на континенте в недрах древнейшей китайской цивилизации» [5, с. 5].
Впервые Япония знакомится с европейцами в ХVI в., когда на остров Танэгашима прибыли португальцы, получившие прозвище «намбандзин» («южные варвары»). Произведения, которые они привозили среди прочего, были ремесленного уровня, поскольку основное их назначение заключалось не в эстетическом воздействии на местное население, они выступали своего рода иллюстрациями к христианским заповедям, с которыми европейцы начали знакомить японцев. Чуть позже эту миссию продолжат уже иезуиты (в частности, Ф. Ксавье), которые оставили немало записей, рассказывающих о художественной культуре Японии (описание архитектурных сооружений, живописных работ, особенностей чайной церемонии и пр.). Эти материалы, попадая в Европу, разрушали стереотипы, сложившиеся в западном обществе о странах Востока, описание которых в предшествующие периоды напоминало сказку, в рассказах о них содержалось немало фантастического. Таким образом, иезуитов следует считать первыми европейцами, начавшими описывать традиции и уклад жизни японцев (в частности, в 1565 г.
начали выходить «Японские письма», которые выпускались несколькими европейскими издателями). Несомненно, эти записи еще нельзя рассматривать в качестве попытки проникнуть в суть и специфику данной культуры, понять ее особенности, они пока фиксируют лишь внешнюю сторону явлений и событий. Но допустимо видеть в них начальный этап «узнавания» иной культуры.
В этот же период в Японии начинает формироваться и школа ё-га («европейская живопись»), одним из первых представителем которой был Нобуката, живописец, сведения о котором крайне скудны. Ряд исследователей выдвигает гипотезу, что он принадлежал к одной из буддистских монашеских групп, поскольку именно в этой среде (вероятно, именно под влиянием Нобуката) начинается формирование школы портретной живописи Обаку (так называлась одна из монашеских буддистских сект), просуществовавшей сравнительно недолго (к концу 1630-х гг. ее следы уже теряются). В начале ХVII в. появляются портреты европейских правителей на конях, выполненные местными художниками. Можно вспомнить и полотна Ямада Уэмона, работавшего в европейской традиции. «Однако антихристианские эдикты заставили воздержаться от проявлений интереса к западному искусству, в котором религиозные мотивы были очень распространены» [9, с. 539].
Чуть позже знакомство Японии с европейским искусством было продолжено уже на государственном уровне. В Нагасаки, куда с конца ХVII в. начали прибывать голландцы, была учреждена должность инспектора живописи («мэкики»), в задачи которого входил не только осмотр всех привезенных европейцами живописных работ (включая китайские произведения), но и обязательное копирование лучших из них. Эта практика, спустя несколько лет, привела к формированию стиля «кара-э мэкики» («картины инспекторов китайской живописи»). Со временем эта должность начала передаваться по наследству, и доступ к ней получили представители лишь четырех семей, каждая из которых специализировалась на определенном жанре, стиле или технике. Так, художники семей Араки и Ишизаки (ХVIII в.) не только изучили подходы и манеру европейской живописи, но и стремились применять их к построению композиции при создании произведений, традиционных для японского искусства.
Таким образом, японские художники, проявлявшие интерес к западноевропейскому искусству, встречались и до ХIХ в. Но «японцы скорее интересовались вопросами техники, нежели эстетики, и внимательно изучали принципы построения перспективы и передачи светотени» [9, с. 539]. На конец ХVIII – начало ХIХ вв. приходится период расцвета местных живописных школ, лучшими представителями которых были Ито Дзя-кутю, Тани Бунтё, Маруяма Окё. Кроме того, в поздний период Эдо продолжали работать мастера укиё-э и школы бадзинга.
Лишь в конце ХVIII – начале ХIХ вв. в японской живописи вновь появляются мастера, в частности Сиба Кокан (Кацусабуро), для которых западное искусство стало предметом изучения (например, Аодо Дэндзэн, чье творчество повлияло на Кацусики Хокусая и Утагава Кунийоши, самурай Ишикава Тайро, взявший в качестве псевдонима европейский вариант имени – Таффель Берг). Сиба Кокан прошел путь, схожий с тем, по которому двигались и европейские мастера в ХIХ в.: получение традиционного для данного региона художественного образования (в частности, он был учеником Судзуки Харунобу и Хирага Генная, освоил технику укиё-э и другие традиционные стили), понимание, что сформировавшиеся к этому моменту художественные возможности и методы национального искусства не позволяют передать новых идей, иного видения действительности. Кацусабуро пытался освоить приемы китайской живописи, где привлекательными для него оказались яркие краски и новые способы передачи перспективы. Позже художник знакомится с западноевропейским искусством, открывая для себя новые формы и техники, в частности, метод гравирования на медной пластине. Более того, он получил возможность практически погрузиться в пространство европейской культуры, когда переехал в Нагасаки, где проживало большое число голландцев. Сиба Кокан освоил голландский язык, не только для того, чтобы общаться с представителями Нидерландов, но и читать выпущенные на этом языке книги (в том числе, и по истории искусств). Под влиянием западной художественной традиции он начал выстраивать в соответствии с ней композицию своих картин, работать с масляными красками. Более того, Сиба Кокана можно считать одним из первых популяризаторов европейской культуры в Японии: он начал издавать книги о культуре Запада (например, опираясь на тексты трактатов Н. Коперника, написал работу «Иллюстрированное объяснение астрономии Коперника», сопроводив ее собственными рисунками). Интересно и его «Обсуждение Западной живописи», где автор анализирует и сопоставляет подходы к изобразительному искусству в европейском, китайском и японском искусстве.
В отличие от Японии, которая в течение Средневековья (особенно раннего), жила достаточно изолированно, Китай контактировал со многими странами и народами (Индия, Византия, Персия, Самаркандское и Бухарское царства). Например, в Чанъани эпохи Тан проживали занимавшиеся торговлей греки, персы, арабы, выходцы из Сибири, японцы (в этот момент Япония устанавливает дипломатические отношения с Китаем и заимствует отдельные элементы ее культуры). С ХVIII в. Китай заинтересовал и страны Западной Европы (в частности, Англии, Франции, Германии). Благодаря этим многочисленным контекстам Китай получил возможность вести межкультурный диалог, знакомиться с культурными традициями Запада.
Социально-политические события во второй половине ХIХ в. (в частности, подавление армии тайпинов, иностранная интервенция) вынуждают реакционно настроенную интеллигенцию Китая отказаться не только от сложившейся политической практики, но и традиционной художественной техники. Отчасти, подобная реакция на искусство была связана с тем, что китайская живописная традиция, сформировавшая еще в древности, выступала одним из символов феодализма, поэтому мечтающая о преобразованиях часть китайской интеллигенции заговорила и о необходимости реформирования сферы художественной культуры. В связи со сказанным не вызывает удивления и тот факт, что лишь на рубеже ХIХ – ХХ вв. был введен термин «гохуа» («живопись [нашей] страны») как обозначение традиционной китайской живописи, хотя ее рождение относится к III – II вв. до н.э.
Это следует объяснить желанием определить, обозначить предшествующий период развития китайской традиционной живописи, отделив его, таким образом, от современного. С другой стороны, введение термина «гохуа» можно трактовать и как попытку консервативной части интеллигенции сохранить национальную художественную традицию, ее канонические формы и стили, маркировать их, чтобы противопоставить гохуа «сиянхуа» («западной, заморской живописи»).
Исторический момент, условия и обстоятельства проникновения в Китай образцов европейской школы живописи схожи с теми, что были и в Японии: ХVII в., христианские миссионеры, в частности, иезуиты, которые использовали гравюры на евангельские сюжеты в ходе христианизации местных жителей. На следующем этапе в их творчестве появляются произведения, стилистически близкие традиционной китайской живописи (например, много работ создается с изображением персонажей, помещенных в природную среду, или в пейзажном жанре, которому китайские художники всегда отводили значительная роль), и они превращаются в один из инструментов привлечения новых адептов христианства. Таким образом, как и в случае с Японией, цель этих европейских мастеров (в том числе и из иезуитов) состояла не в создании подлинного произведения искусства, а в написании картин, которые выступали бы иллюстрацией к тем религиозным идеям, что миссионеры пытались донести до китайцев. Кроме того, эта среда так и не сформировала хотя бы нескольких талантливых живописцев, способных заложить основы художественной школы в инокультурном пространстве Китая, где доминировали бы приемы европейской масляной живописи. Но контакт и знакомство с европейской художественной традицией привел китайских художников к осознанию разности подходов видения окружающей действительности и способов ее отображения европейцами и местными мастерами.
Лишь в ХVIII в. (начиная с династии Цин), когда придворным художником стал иезуит Джузеппе Кастильоне, более полувека работавший в Китае и взявший имя Лан Шинин, европейские живописные практи- ки получают поддержку на государственном уровне. Кроме него в Китае работают и другие европейские художники (в частности, Ж.-Д. Аттире, И. Сишельбарт, Дж. Панци, Луи де Пуаро), благодаря творчеству которых были заложены основы для знакомства с европейской художественной традицией и формирования школы европейской живописи в Китае. «Присутствие столь большого числа европейских живописцев свидетельствует о готовности императоров и их придворных к восприятию западноевропейской традиции. Любопытно, но работы указанных художников были фактически не известны на родине» [8, с. 69]. Лишь после разграбления в 1860-е гг. возведенного Дж. Кастильоне Юаньминъюань («Летнего дворца»), где среди других произведений были работы Ж.-Д. Аттире, И. Сишельбарт, Дж. Панци, Луи де Пуаро, они начали переправляться в Европу. Вывоз произведений искусства (как традиционно китайских, так и выполненных работавшими в Китае европейцами) приобрел массовый характер к началу ХХ века. Эти артефакты вызвали восхищение на Западе, художественная критика и искусствоведы начали проявлять к ним пристальный интерес, сделав их предметом исследования, а самые крупные и известные аукционные дома и музеи стремились получить их в свои коллекции.
Более того, китайские мастера в 1900– 1910-е гг. начали совершать поездки в Европу, где получили возможность не только увидеть новое европейское искусство, но и пообщаться с его представителями. Вернувшись в Китай, они привносят усвоенное в Европе в свои работы, трансформируя традиционные стили и практики гохуа [3]. «Результатом этого синтеза становится выделение традиционного направления (Ци Байши, Хуан Биньхуна, Паль Тяньшоу, У Чаншо) и смешанного, сое- динившего традиционные черты и западные подходы (Сюй Бэйхун, Линь Фэнмянь и др.)» [8, с. 69].
Расширение художественной практики китайскими художниками стало возможным и в результате их поездок в Японию, которая к этому моменту уже вступила в межкультурный диалог с Западом. Эти «командировки» оказались продуктивны для живописцев Китая, поскольку на примере японского искусства показали возможные пути трансплантации и усвоения чужого опыта, продемонстрировали варианты ассимиляции традиций западноевропейского и восточного искусства.
Постепенно к началу ХХ в. в рамках китайского искусства сформировались разные направления, дифференциация которых происходила в зависимости от отношения к национальной художественной традиции. Мастера традиционной китайской живописи полагали, что поиск новых подходов для развития национальной школы следует начать с ретроспективного анализа ее истории, выявляя основные этапы ее развития и присущие им характеристики. Они были убеждены, что лишь традиционные для китайского искусства способы отражения действительности могут стать опорой для дальнейшего развития национальной художественной школы [1]. Живописцы смешанного направления испытывали воздействие эстетических установок и взглядов на искусство, сложившихся в европейском художественном пространстве. Они считали необходимым изучить опыт западноевропейских мастеров, их подходы к построению композиции, использованию разных видов перспектив, цветовому решению, светотеневой моделировке, соотношению рисунка и краски. В частности, Сюй Бэйхун в статье «Теория усовершенствования старой китайской живописи» подчеркивает, что не следует отказываться от достижений прошлого, но, поскольку современное искусство требует новых форм и техник, необходимо обратиться к западным образцам [6]. «Он вводит в китайскую художественную практику термин «рисунок», начинает писать этюды и делать зарисовки, отмечая, что они выступают частью подготовительного этапа, открывающего перед художником иные возможности. Среди заслуг Сюй Бэйхуна следует указать и введение по его инициативе в художественных школах и академии занятий по рисунку с натуры. Кроме того, необходимо отметить и его новый подход к осмыслению искусства, четкую артикуляцию задач и методов» [8, с. 69]. Эти идеи действительно звучали новаторски, поскольку теория традиционного китайского живописного искусства отличалась «нетеоретично-стью», если сравнить ее с западноевропейским подходом. Теория искусства в китайском варианте, как и философские учения Востока, состояла из многочисленных метафор, ибо в ней «речь шла об определении не предмета живописи, а самих пределов художественного совершенства» [4, с. 206]. Для китайских мастеров одинаково ценен был и процесс создания произведения, дающий возможность отрабатывать тот или иной художественный прием, приближаясь к совершенству, и результат этого процесса.
Представители смешанного направления полагали, что эстетической основой для развития китайской живописи может выступить реализм. Однако эта позиция вызывала неприятие не только в среде китайских мастеров, но и у японских художников. «Одним из первых об истернизации изобразительного искусства заговорил профессор Токийской академии художеств Омура Сегай, выступавший в 1900-е гг. против механизации искусства и реалистической традиции, идущей с Запа- да» [8, с. 70]. Однако ряд молодых китайских живописцев, уже освободившихся от мысли о необходимости следовать традиции и канону, выбирали те эстетические ориентиры, которые импонировали их творческим стремлениям. Более того, некоторые из них в начале ХХ в. (например, Линь Фэнмянь) отправлялись в Париж, где имели возможность познакомиться с различными художественными направлениями (кубизм, постимпрессионизм, символизм, экспрессионизм и пр.), элементы которых они гармонично соединяли с традиционной китайской живописью.
Таким образом , благодаря межкультурному диалогу, начало которого приходится на ХVI – ХVII вв., к концу ХIХ в. Запад и Восток начали с интересом относиться к культурам друг друга, признавая наличие в них древних традиций, которые могли стать источником новых смыслов, подходов и идей для их искусства. При первых встречах Японии, Китая и Европы различия казались непреодолимыми, поскольку культуры находились на разных этапах исторического развития (Япония в этот период переживала еще Средневековье, в то время как Европа уже вступила в эпоху Нового времени). К 1860 – 1880-м гг. отношение к инокультурному пространству, воспринимаемому раньше как чужому, начинают рассматривать как «другое». Увлечение европейским искусством и его изучение затронуло разные регионы и мастеров. В этом смысле очень символична композиция С. Кокана «Встреча Японии, Китая и Запада», где Япония сидит рядом с Западом, а Китай – напротив них. К началу ХХ в. некоторая оторванность Китая и особенно Японии от общемировых культурных течений была практически преодолена, а творчество мастеров этих стран становится частью единого, мирового художественного пространства
Список литературы Влияние западного искусства на художественную культуру Китая и Японии в ХVII-ХIХ веках
- Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. - М.: "Искусство", 1975. - 440 с.
- Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства / Пер. с англ. А.Г. Ракина. - М.: "Языки русской культуры", 1999. - 328 с.
- Лан Шаоцзюнь. Консерватизм и движение вперед: сборник размышлений о китайской живописи ХХ века. - Ханчжоу: Издательство Всекитайского института изобразительных искусств, 2001. - 519 c.
- Малявин В.В. Душа китайского художника // Книга Прозрений / Сост. В.В. Малявин. - М.: Наталис, 1997. С. 172 - 211.
- Николаева Н.С. Япония - Европа. Диалог в искусстве. Середина ХVI - начало ХХ века. - М.: Изобразительное искусство, 1996. - 400 с.
- Пострелова Т. А. Творчество Сюй Бэйхуна и китайская художественная культура ХХ в. - М.: Наука, 1987. - 210 с.
- Роули Дж. Принципы китайской живописи // Книга Прозрений / Сост. В.В. Малявин. - М.: Наталис, 1997. С. 212 - 325.
- Синявина Н.В., Махович Е.В. Художественные процессы в социокультурном пространстве России и Китая начала ХХ века // Культура и образование. 2019, № 3 (34). С. 63 - 73.
- Сэнсом Дж.Б. Япония: Краткая история культуры / Пер. с англ. Е.В. Кириллов. - СПб.: Издательство "Евразия", 1999. - 576 с.
- Фицджеральд С.П. Китай. Каткая история культуры / Пер. с англ. Р.В. Котенко; Научн. ред. Е.А. Торчинов. - СПб.: Изд-во "Евразия", 1998. - 456 с.